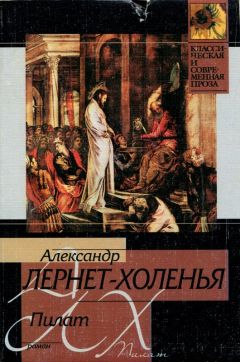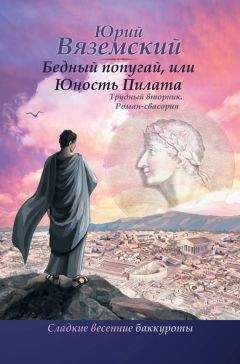Следовательно, он подлежал отнюдь не моему собственному суду, а суду Ирода. Это было не совсем правильным, так как, если он совершил то, что ему вменялось в вину, то это находилось не в области компетенции Ирода, а в области моей компетенции и власти. Однако, еще не успев даже облегченно вздохнуть, я не сомневался ни на одно мгновение, правильно ли я поступаю, передавая его своему собственному царю — Ироду: он в связи с праздником Пасхи или по какой-то другой причине как раз находился в Иерусалиме.
Скажу прямо: этот человек, Иисус, начинал мне не нравиться своей странностью и тем, что безропотно терпел оговоры и оскорбления. Кротость, которую он проявлял, побуждала людей к жестокостям, а его беспомощность доходила до того, что поносители и гонители, казалось, испытывали, до какой же степени он будет все это терпеть; наверное, он вообще относился к тому сорту людей, за которыми толпа с недавнего времени наблюдала с такой пристрастностью, словно они брошены к диким зверям на арену, потому что они не делали ни малейшей попытки защититься или укрыться в безопасном месте. Слабость наших близких ввергает нас в гораздо большую опасность, если мы теряем контроль над собой и сносим подлости наших гонителей, в то время, как несправедливости и притеснения тиранов разжигают в нас кровавую ненависть; и я с полным на то основанием был рад поскорей передать этого человека тетрарху.
Тетрарх — то есть четверовластник, владеющий одной из четырех областей, — так титуловался Ирод, тогда как его отец, Ирод Великий владел не только Галилеей, но и тремя другими областями: Иудеей, Самарией и Переей; а после него всех его потомков стали называть тетрархами. Во всяком случае, я приказал Руфу доставить Иисуса, хорошо защищенного центурией, к Ироду; и вся рота иудеев последовала, выкрикивая обвинения и жестикулируя, выполнять свой воинский долг.
Для Спасителя же представилась самая лучшая возможность спастись, то есть снова быть отпущенным Иродом на свободу. Хотя при нем иудеи обвиняли Господа еще сильнее, он их, как мне потом сообщили, совсем не слушал. Ирод уже многое знал об Иисусе и из-за своей богобоязни мог побудить Иисуса совершить чудо перед его, четверовластника Ирода, очами. Но и в другом случае Ирод не осудил бы Господа, так как он, Ирод, после казни Иоанна Крестителя скорее бы воспротивился, чем обрадовался оказаться причастным к смерти святого Бога. Поскольку он с нескрываемым отвращением противился и обезглавливанию Иоанна; возможно, он понимал, что ему меньше всего хотелось бы рассматривать Крестителя как своего пленника, что гораздо безопасней держать его у себя дома ради собственной забавы, как пророка.
Только сам пленник отнюдь не чувствовал себя гостем в доме и с постоянно растущей досадой высказывал это, и так из своей тюрьмы бранил жену четверовластника, что в доме все шумело и грохотало. И бранился он на самом утонченном арамейском, при самом прекрасном владении языком и несомненном красноречии; при этом он говорил непристойности и адресовал их племяннице Ирода — дочери первосвященника Аристовула. Поскольку она была не только племянницей тетрарха и находилась с ним, будучи женой побочного брата, в кровосмесительной связи, она, как оговаривал ее Иоанн, вела себя распутно не только с самим Иродом, но и прелюбодейничала со многими другими, и являлась совершенным чудовищем в глазах Крестителя. Так продолжалось довольно долго, пока тетрарх своей фальшивой богобоязнью и попустительством не вынудил Крестителя прокричать на весь дом: «Где та, которая отдала себя радости своих глаз, которая вела себя непристойно перед пестро намалеванным мужиками и отправляла посланников в страну кальдейцев?» Кальдея в те времена была все еще настоящим змеиным гнездом всех непристойностей. «Где она, — продолжал кричать пророк, — которая путалась с правителями Ассирии? Где она, которая отдавала себя юношам Египта? Тем самым, которые красовались в прозрачных льняных тканях и украшенные гиацинтами и чьи тела как у великанов? Идите и поднимите ее с постели ее ужаса, с ложа ее кровавого позора!» И так проходил день за днем в чудесных каденциях, и это было все-таки очень неприятно. И самому четверовластнику тоже довелось услышать не менее плохое о своей персоне. «Где он, — кричал пророк, — чаша грехов которого наконец переполнилась? Где он, который однажды на виду у всего народа умрет в своей серебряной мантии?» Но крикуна, похоже, не устроила одежда, которую он придумал тетрарху; Креститель решил одеть Ирода иначе, и ревел на всю горную окрестность: «Он будет сидеть на своем троне, покрытый багровыми струпьями и пурпурной тканью из Басры, но ангел Бога низвергнет его и черви его сожрут!» Короче говоря, это становилось все более невыносимым, так что наконец даже Ирод, который долгое время потешался над бессильной злобой святого, спросил, когда же ему, святому, заткнут рот. Поскольку потрясенный тетрарх не посмел ничего предпринять против Крестителя, то в конце концов он пригласил танцевать Саломею, которая более или менее голой танцевала перед своим отчимом, чтобы совратить и низвергнуть святого. Кстати, этот отчим был не только дядей своей жены, но по двум линиям двоюродным дедом Саломеи; отчим обещал ей, если она станцует перед ним, все, что она пожелает; и мать Саломеи уговорила дочь потребовать голову Крестителя. Однако после всего этого Саломея вышла замуж не за Ирода, а за одного их своих дядей или двоюродных дедушек, а именно за Филиппа — властителя северной Палестины.
После того как Крестителя обезглавили, Ирод постоянно испытывал страх, что Бог отомстит ему за обезглавливание святого; и что из-за какой-нибудь религиозной казуистики иудеев его будут мучить угрызения совести за то, что он окажется причастным к смерти уже не одного, а двух святых; ведь без чего-чего, а без этого как раз можно было вполне обойтись.
И он начал самым благосклонным образом беседовать с Христом и пытался побудить его совершить чудо. Но произошло так, что Господь или намеренно не удостоил его каким-либо ответом, или потому, что теперь, когда это действительно было нужно, просто не мог совершить никакого чуда, поскольку Бог от него отвернулся, — и он не проявил себя как посланник неба; так что разочарованный тетрарх велел одеть его в белые одежды, чтобы высмеять как совсем неспособного мессию, и снова послал его туда, откуда его привели.
Можно себе представить, как я был удивлен, когда перед моим домом снова началась суматоха и события тотчас начали повторятся, к тому же они скоро стали такими запутанными, что даже евангелисты не могли разобраться в правильном порядке всего хода событий. Во всяком случае, — так, по крайней мере, утверждал Руф, — произошло следующее: после битвы при горе Гаризим я доставил в город Варавву и нескольких его офицеров; и так как у меня была привычка, или я должен был иметь такую привычку, на праздник освобождать иудеям пленника, то я противопоставил Варавву Христу, или, если хотите, Христа Варавве, во всяком случае одного мессию другому, и открыл рот, чтобы спросить, кого из двух я должен им отдать.
Но в этот весьма неблагоприятный момент в дело вмешалась моя жена. Эта моя дорогуша, между прочим и к сожалению, давно умершая Клавдия Прокула, имела привычку вмешиваться в мои дела. И в этот раз она прислала ко мне кого-то, кто принес от нее записку; в ней она мне сообщала на латыни, так как здесь латынь едва ли кто-либо понимал: Nicil tibi, et iusto illi; multa enim passa sum hodie per uisum propter eum — He имей никакого дела с этим праведником, так как сегодня во сне я много страдала из-за него. — Пока я медлил и размышлял, как мне отнестись к ее словам, беда уже грянула. Первосвященники и старейшины убедили людей, что им следует выпросить Варавву и убить Иисуса. Когда я еще раз задал вопрос: «Кого вы хотите из этих двоих, чтобы я освободил?», толпа уже сориентировалась и все ответили мне как из одних уст: «Варавву!»
«Но в таком случае, — спросил я еще раз, — как вы хотите, чтобы я поступил с тем, кто сказал, что он царь иудеев?» И они все закричали: «Распни его!» Когда же я их спросил: «Что же он плохого сделал?» — они ничего не ответили на мой вопрос, а еще громче закричали: «Распни! Распни!»
Вся эта сцена, конечно, немыслима. Она вообще не могла иметь места. Я не имел права освобождать пленника. Освободить его я мог только в том случае, если я признавал его невиновным. Если же я признавал его виновным, то освободить его мог только один человек: император. Но где он был!
Следовательно, неправда и то, что я говорил с иудеями об освобождении Господа, чтобы не сказать, болтал об этом; также неправда, как это утверждал Руф, что якобы я умыл руки; поскольку это чисто иудейский обычай, и даже если я уже длительное время был наместником Иудеи, то я все же еще не знал все обычаи страны; и совершенно неправда, что я, умывая руки, сказал: «Я не повинен в крови этого праведника, смотрите!», на что мне якобы весь народ ответил: «Кровь его на нас и на детях наших!», ведь сказанное иудеями — типичное vaticinum post eventum — предсказание постфактум, то есть оно появилось после события, которое она должна была предсказать; речь идет об осаде и разрушении Иерусалима, когда завоеватели уничтожили большое число иудеев, которые могли быть повинны в смерти Господа, возможно также, что при этом убивали их детей и детей их детей. Однако все это доказывает лишь то, что Евангелия были написаны лишь после разрушения святого города; а что же тогда можно думать о точности сообщений о событиях, если они записаны спустя столько времени после самих событий!