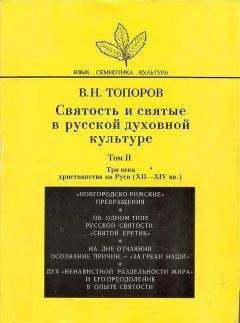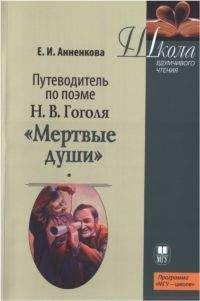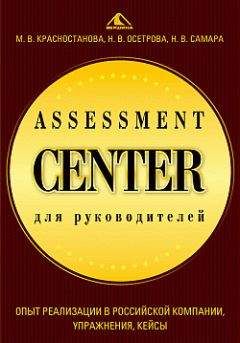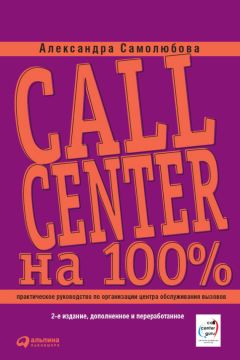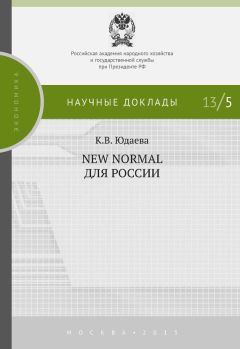Ознакомительная версия.
Кроме перечисленных выше авторов и текстов, составлявших круг чтения Авраамия Смоленского (или вполне определенно, на что есть указания в самом тексте «Жития», или предположительно, когда с точностью можно утверждать только то, что составитель «Жития» в той или иной мере был знаком с упоминаемыми в нем текстами), нужно упомянуть еще два книжных источника. Напомнив читателю о том, что после гонений, несправедливо обрушившихся на Иоанна Златоуста, сбылось пророчество о преследовавших святого, и гонители были наказаны — кто смертью, кто болезнями, кто мучениями, — Ефрем вспоминает в связи с этим нечто подобное, случившееся с некоторыми игуменами, участвовавшими в гонениях на Авраамия. После упоминания о том, как некоторых иереев–гонителей внезапно постигла смерть, другие припадааху ему [Авраамию. — В. Т.] на ногу, прощениа просяще, составитель «Жития» ссылается на подобную же ситуацию, описанную въ «Златыхъ Чепехъ» всея вселеныя святыхъ отець. Это упоминание известного древнерусского сборника, довольно рано переведенного на славянский язык и в значительной степени пересекающегося с соответствующими частями «Изборника Святослава 1076 г.», «Златоуста», «Измарагда» и др. и во всяком случае входящего в некий единый круг, можно принять к сведению, хотя «приточный» характер отсылки к «Златой цепи», вероятно, несколько вуалирует ту роль, которую этот сборник мог играть для самого Авраамия, о чем см. несколько ниже.
О втором книжном источнике, в связи с фигурой Авраамия Смоленского и выпавшими на его долю обвинениями со стороны многих из его современников, будет подробнее сказано в следующей главе «Авраамий Смоленский и глубинныя книгы». Здесь же уместно вернуться к иным индивидуально–личным особенностям Авраамия как представителя своего типа святости, о которых свидетельствует «Житие» и которые обнаружили себя в разные периоды его жизни, в минуты радости и душевного веселия и в дни преследования и угроз самой жизни.
Каким был Авраамий Смоленский и каковы основания, позволяющие ответить на этот вопрос? Очевидно, что многое, а в данном случае всё, зависит от ответа на второй вопрос. Он прост — практически единственное и безусловно наиболее полное основание для суждения о самом Авраамии — его житие, написанное Ефремом. Правда, тут же возникает вопрос о том, насколько можно доверять «Житию» и соответственно Ефрему. Ведь Ефрем был человеком эмоциональным, легко приходил в то взволнованное состояние духа, когда автора этот самый дух может вести дальше, чем позволяет это делать образ самого Авраамия. В таком состоянии легко возникают преувеличения, да и глаз нередко теряет зоркость, и за ярким и внешним можно упустить что–то неброское, но теснее связанное с внутренним миром, с его не всегда различимой глубиной. К тому же, Ефрем отчасти восторжен и для вящей славы Авраамия если и не преувеличить его достоинства, то принизить себя, подчеркивая, что он не только отличен от Авраамия в худшую сторону, но и противоположен ему (см. ниже). Поэтому–то, прежде чем приняться за свой труд, Ефрем и молит Иисуса Христа, чтобы он молитвами Пресвятыя и Пречистыа Девы Матере и всехъ небесныхъ силъ, и всехъ святыхъ молбами дал бы разум, просвещенный божественной благодатью, ему, худому и грешнеишу паче всехъ светлый подвигъ житиа и терпениа начати, еже о житьи блаженаго Аврамиа… И вот в этот момент, когда труд еще не начат и помощь в нем еще только предстоит, Ефрем находит точные слова — «светлый подвиг жизни и терпения». Он мог бы, как и мы вслед за ним, расшифровать — жизни–терпения, жизни, не отделимой от терпения, терпения как некоего существенного жизненного качества, без учета которого жизнь не может быть понята достаточно полно и глубоко. Едва ли случайно, что в предыдущей фразе говорится о прецеденте терпения, высоком примере, которому надо следовать: …и поживъ яко человекъ на земли, и страсть претерпе отъ твари своея, и смерть вкуси на кресте безстрастенъ сый и бесмертенъ божествомъ, и въ гробе положенъ, и въскресе третий день… [64] Можно напомнить и наиболее полный контекст терпения, дважды (с минимальными отклонениями) воспроизводимый в тексте «Жития» и восходящий к словам самого Авраамия — добрый труд, бдение, молитва, терпение, смирение, милостыня, любовь (о терпении см. особо ниже).
И прежде чем начать изложение жизненного пути Авраамия, Ефрем просит Господа сподобить его вся по ряду писати о житьи богоносного отца нашего Авраамиа, чтобы прославить его — угодника, Божьего угодника, святого угодника. Всё это Ефрем записывает много лет спустя после смерти Авраамия и, конечно, исходит не только из своих личных впечатлений, но и опирается на молву, отражающую пока еще не ставшее официальным мнение паствы, народа. Многому в жизни Авраамия Ефрем из–за разницы в возрасте не мог быть свидетелем. Тем ценнее свидетельства других людей, отмеченных даром прозрения, чтения в тайной книге Судьбы «глазами сердца». Таков был пресвитер (святитель Божий), к которому на восьмой день принесли младенца, чтобы имя детищу нарещи, и который прозрел в нем его богоотданность, — Прозвитеръ же, видевъ детища, сердечныма очима и благодатью Божиею прозреше о немъ, яко хощеть измлада Богу датися. Такова же была и та некая дева и блаженая черноризица, получившая таинственным образом знак о рождении отмеченного свыше дитяти в выпавшем на ее долю видении.
Богоотданность — понятие сильное, определенное и самодовлеющее, но не исчерпываемое какой–то одной формой воплощения этого качества и не объясняемое некоей единой причиной возникновения особенности, обозначаемой этим понятием. И канонические матрицы житийного описания в данном случае нередко заметают подлинный след или пытаются как–то соотнести его с внешними обстоятельствами и, следовательно, хотя бы отчасти, объяснить ими эту особенность. Так, и в случае Авраамия родители были благочестивы и жили по Божьим законам (Бе бо сей блаженый Авраамей отъ верну родителю рождься, беста и та въ законе Господни добре живуща благочестно). Как и во многих других житиях, отец был всеми почитаем и любим и в чести у князя, бе бо воистинну отъ всехъ опознанъ, яко и правдою украшенъ, и многымъ въ бедахъ помогая, милостивъ и тихъ къ всемъ, къ молитве и ко церквамъ прилежа (эту тихость Авраамий, возможно, унаследовал от отца — и как свое личное свойство, глубоко укорененное в его характере, и как тот идеал, к которому он стремился [65]). И мать была под стать отцу — всемъ благочестиемъ украшена. Но, как бы в предупреждение известного житийного штампа, составитель «Жития» спешит сообщить — Та же не яко неплоды беста: у нее было двенадцать дочерей, но не было ни одного сына, и — возвращаясь к несколько иной, более узкой матрице — она и ее муж молили Бога даровать им сына, приносили многие обеты и милостыню в церкви и монастыри. Но всё это было не случайно, а по Божьему промыслу (И се бысть има отъ Божиа строениа). Значит, эта будущая богоотданность Авраамия была и в планах Господа: когда было нужно и пришло время, Он услышал мольбы родителей и даровал им сына, и в нем, еще младенце, люди с даром прозрения различили нечто особенное, ибо и сам этот дар был дан им благодатью Божиею, и, как уже говорилось, благодать Божиа бе с нимъ, и духъ Божий измлада в онь вселися. Что было, когда Авраамий пришел въ возрастъ смысла, о его прилежании к книгам, церковному пению и чтению, о том, каким он был, когда вырос (всею телесною красотою и добротою яко светъ сияше), о его отказе от брака, к которому его принуждали родители, и о том, как он наставлял родителей презрети и възненавидети житейскую сию славу, прелесть мира сего и советовал им постричься в монахи, — обо всем этом также хорошо известно.
Смерть родителей освободила Авраамия от некоторых обременительных для него сыновних обязанностей. Его положение в семье было отчасти ложным: поучая родителей, что им следовало сделать, он сам, пока родители были живы, сделать не решался. Точнее, решение уже было принято, но осуществить его он медлил, хотя и очень хотел это сделать как можно скорее. Это решение предполагало масштаб всей жизни, выбор жизненного пути. И этот выбор тоже уже состоялся, но даже по смерти родителей Авраамий не знал, как и в чем должно состоять осуществление этого пути. Вернее, ему в это время казалось (вплоть до уверенности в своей правоте), что он знает, что должен теперь делать.
Такая ситуация, когда будущий святой делает свой выбор, но еще не начал осуществлять его так, как он считает нужным, такой момент свободы выбора и жизненного пути (никогда не полной и чаще всего лишь внешней и кажущейся) — тоже из словаря житийных клише и с разными вариациями повторяется во многих текстах этого жанра, в частности, и в «Житии» Феодосия Печерского, если говорить о том, что было уже предметом рассмотрения в этой книге. Эта ситуация, заявляющая о себе в какой–то краткий отрезок жизни, нередко совпадающий с возрастом, когда слишком многое меняется и новые важные факторы входят в жизнь и всё это настойчиво толкает к принятию решения, по возможности скорого, кардинального, даже последнего, потому что оно мнится как то единственное, в котором возможное сливается с должным, представляется очень важной из–за того, что с нею, этой ситуацией, обычно связывается пик ответственности человека, выбравшего путь, но, образно говоря, не знающего дорог, ибо путь идеален — у святого он свыше, по Божьей благодати или из глубины своей веры, а дороги реальны, конкретны и зависят от условий мира сего, которые в сотрудничестве с идеальным устремлением и порождают тот реальный путь, что образует содержание и смысл жизненного подвига святого. В этой ситуации всегда кроется множество соблазнов максималистского, «крайнего» решения, нередко приводящих тех, кто вступил на выбранный путь, к неудаче и даже духовной катастрофе, когда недостигнутое выполнение «мечтания» или неполное его выполнение приводит к кризису, сомнениям и даже попыткам искать выход из положения в противоположной крайности, своего рода «антисвятости» (по принципу «чем хуже, тем лучше»). И переход через этот узкий мостик не только весьма ответствен, но иногда и крайне опасен.
Ознакомительная версия.