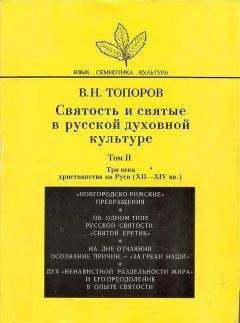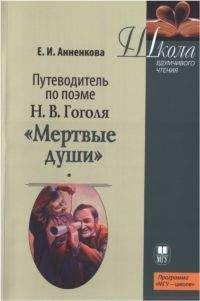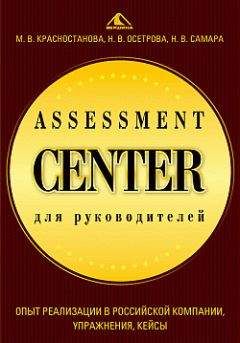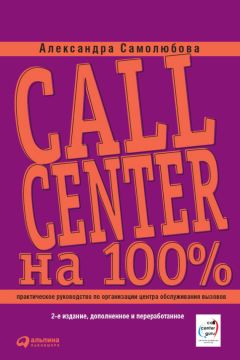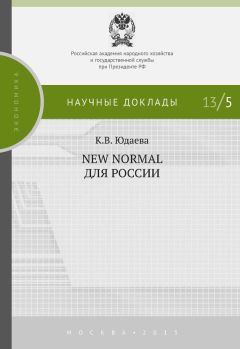Ознакомительная версия.
Правда, хороши есть акафисты.
Но я вопию: мало, мало, мало — для тысячи лет славянщины.
(Розанов 1997, 239–240).
Или:
Вот Сергий Радонежский. Вот Серафим из Сарова. Но это — не столько люди, сколько чудеса природы человеческой. Они «видели», они «знают». Им «Бог был близок».
Прочие? Даже из церковной иерархии. Они повторяют, косно и деревянно, — чего не разумеют; они не смеют не верить, «по положению» и «в виду народа», — а не то чтобы уже «верили» […]
(Розанов 1997, 480).
Или:
Нужно не просвещение, а просвещение.
Не книга и грамота, а святой человек, святое ремесло, честная торговля, «крестящийся на угол» (икона) чиновник.
Трудолюбивый отец и заботливая мать.
Вот что нужно. А без книг можно вовсе обойтись. Строганов без них нажил богатство, Петр, «по складам разбирая», устроил Сенат и Синод, корабли; и учили в лесах Сергий Радонежский, Серафим Саровский и Амвросий Оптинский.
(Розанов 1997, 392).
Ср. также Розанов 1994а, 252–254; Розанов 1995, 118, 493; Розанов 1995а, 33–34, 218–219, 247; Розанов 1996, 441, 628.
В статье «Два стана» (1904 г.) Розанов с одобрением приводит слова инока из Троицы, сказанные им в выступлении на Публичном богословском чтении 21 марта 1904 года в Московском Епархиальном доме. Инок просит позволения «поведать свои монашеские думы по поводу печальных явлений в современной нам духовной русской жизни»:
На это дает ему дерзновение, — продолжает он, — столь дорогое для русского сердца имя Сергиево. В самом деле: кому из православных русских людей с раннего детства не знакомо это святое имя? У кого из нас, коренных москвичей, сладостно и радостно не трепетало сердце, когда наши благочестивые родители говорили нам, детям, о преподобном Сергии и его знаменитой Лавре? О, с каким благоговением вступали мы тогда в святые врата заветной обители Сергиевой, с каким восторгом, благоговейным умилением повергались пред священною ракою его нетленных мощей!..
Говорят: Москва есть сердце России. Если так, что Лавра Сергиева есть один из самых жизненных нервов этого сердца. Именно здесь скорее, чем где–либо, можно подслушать биение русского народного сердца, приобщиться народной жизни, проникнуться сознанием истинно русских основ и идеалов этой жизни.
(Розанов 1995а, 218–219).
Все верно, кроме того, что об «истинно русских основах» сам Сергий никогда не говорил. Конечно, Сергий во всех своих помыслах, словах и делах преимущественно имел в виду русский народ, но он для него был прежде всего стадом Христовым, христианами и православными, и все, кто входил в это стадо (а там были, разумеется, и нерусские), могли быть больше или меньше других только в силу их веры, религиозного усердия и собственных добродетелей, а никак не из–за их «русскости».
Этот круг идей был близок Шестову и нашел отражение в целом ряде его выступлений не только о «неспособности» слова открыть тайну, но и о его вреде, когда речь идет о тайне. «Слова отпугивают тайну»; — «Слова мешают человеку приблизиться к последней тайне жизни и смерти» («Sola Fide», см. Шестов 1966, 77); — «“Самое важное” лежит за пределами понятного и объяснимого, то есть за пределами допускаемого языком или словом общения» («Афины и Иерусалим», см. Шестов 1993, т. 1, 619) и т. п. Эти мысли Шестова в значительной степени разделялись всей мистической традицией. Отсюда — естественное обращение к идеям бессловесности, молчания (столь существенным в связи с Сергием Радонежским), с одной стороны, и веры с другой. Апофатический модус описания в мистическом богословии, несомненно, коренится именно в этой ситуации тайны и возможности его «положительного» выражения языком, в слове. — В связи с соответствующей темой у Шестова см. основательное и проницательное исследование Левин 1996.
Глубоко понял эту ситуацию современный мыслитель:
«Пока я не уступаю миру, пока думаю, что все сводится только к моей тренировке и моей установке, будь то установка на тщательную отделку слова или, наоборот, на автоматическое письмо и на поток сознания, т. е. на вычерпывание бессознательного, мой метод заслоняет от меня то, что просто есть. Ведь и установка на бессознательное тоже установка сознания. Так называемое бессознательное оказывается опять сознанием, замахнувшимся на то, чтобы вычерпать собою без остатка все, что есть в человеке. Сознание добивается, чтобы кроме него и его бессознательного ничего непредвиденного на дне человеческого существа не осталось. Интенсивный разговор о бессознательном в 20 в. скрывает за собой намерение сознания распорядиться тем, что оно раньше не смело считать своим, чем оно поэтому не могло распоряжаться и что оно теперь сделало попытку подчинить, назвав бессознательным. Как чрезмерные стилистические заботы, так и техника письма, черпающая из «бессознательного», — это продолжение хлопот сознания вокруг себя с подстегиванием самого себя, с обеспечением себя, со сменой разнообразных «установок», когда давно уже неясно, осталось ли вообще что–либо этому сознанию выражать. Суета вокруг «средств выражения» продолжается еще долго после того, как сказать становится нечего. Отгородившись концепцией «бессознательного» от задачи осознания самого себя, сознание оберегает себя от той догадки, что смысл и слово, смысл–слово громко говорят вне его.
Один из этих голосов — настроение. Другой — голос совести, прежней жилицы дома, куда вселилось сознание
(Бибихин 1993, 76–77).
Строго говоря, внутри «епифаниева» текста следовало бы выделить и сообщение некиих третьих персонажей — личное или в третьеличной передаче — о Сергии. Точно так же следует помнить и о значительной степени относительности речевых партий самого Сергия, которых около 75 образцов, составляющих значительный общий объем. О «собственных» словах–речах Сергия см. в соответствующих частях работы.
Нужно отметить, что в «Житии» Сергия, строго говоря, вообще нет фрагмента, который можно было бы счесть за канонический образец портретного описания, помещаемого в определенное («свое») место житийного текста.
Известная работу П. А. Флоренского о моленных иконах Сергия Радонежского, в основе которой лежит реферат, прочитанный автором в 1919 году в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице–Сергиевой Лавры (Флоренский 1969, 80–90; Флоренский 1996, т. 2, 383–408).
Богословско–исторический комментарий к ряду проблем, поставленных Флоренским в «Иконостасе», см. Успенский 1989.
Среди них в первую очередь нужно различать иконы, где Сергий является единственным или безусловно центральным изображением, как в иконах класса «Сергий со сценами жития», и иконы, на которых Сергий входит в состав более сложных композиций типа явления Богоматери Сергию или же представлен в ряду других святых.
См. об этом Франк 1996, 167, но и 103–112.
Панегирический портрет Сергия, приведенный выше, по сути дела реализует противоположный принцип — «из малого многое» и представляет собой упражнение в синонимии. Малое содержание (один, в принципе, смысл) — многие слова: более 20 эпитетов, в которых воспроизводятся и монтируются в широком масштабе одни и те же элементы, ср.: смиреный — смиреномудрый — целомудреный, приветливый — благоцветливый — благоподатливый — благоговейный, добросръдый — добронравный (ср. добродетелми), нищелюбивый — страннолюбный — миролюбный — боголюбный, тихый — утешителный. Среди этих эпитетов более половины составляют сложные двучленные образования с женскими окончаниями (чаще) или дактилическими (несколько реже), создающие инерцию ритма.
Ср. и предлагаемые экспликации–дополнения: «Из блаженств евангельских, как изображает нам преподобного Сергия его жизнеописатель, несомненно прилагались к нему: блаженны нищие духом…, блаженны кроткие…, блаженны чистые сердцем. Но вполне прилагалось к преподобному Сергию и еще [одно. — В. Т.] евангельское блаженство: блаженны милостивые» (Голубинский 1892, 30). Сергий в этом отношении был очень далеко от г–на Тэста, хотя и ему, вероятно, были чужды чувствительное, эмоциональное, «душевное», «психологическое» и тяга к анонимному, к деперсонализации, к тому пределу, где все личное растворяется в великом бесконечном, Возможно, и Сергий, как и автор «Вечера с господином Тэстом», знал, что «в словах нет никакой глубины». Но он знал и то, что имеет глубину, — безмолвие.
В связи с тем свойством Сергия Радонежского, которое обозначается как кротость (кротъкъ), уместно вернуться к этимологии слова с тем, чтобы определить семантическую мотивировку ее, К этому лексико–семантическому гнезду относятся праслав. *krotъkъ(jь), *krotьnъ(jь), *krotostь, *krotidlo, *krotiti, *kroteti, *krotnoti, см. ЭССЯ 1987, 17–19. Здесь же предлагается новый вариант этимологии. Соглашаясь с Бернекером в том, что в основе значения этих слов находится идея кастрации ("упрощение, усмирение кастрированием"), см. Zbom, Jagié 1908, 602; Bemeker 1908, 1, 625, авторы словаря не соглашаются с предложенным Бернекером выбором способа кастрации — битье мошонки палками (ср. русск. диал. кротить "бить морского зверя" —>"усмирять"). «С нашей точки зрения, преждевременны поэтому и сравнения с греч. κροτέо "бить", "колотить", а тем более — прямолинейное возведение к и. — евр. *kert — "резать" (ЭССЯ 1987, 19). Вместо этого и в развитие старой идеи (Brückner 1957, 271) авторы предлагают объяснять эти слова из и. — евр. *kret- : *kert — "крутить", "скручивать" (относя сюда же и инфигированный вариант *krotiti : праслав. *krotiti), см. Pokorny 1959, I, 585, и связывать в таком случае кастрацию с вариантом перевязывания (перекручивания) семенников. Это решение едва ли можно назвать безупречным. Разгадку этимологии указанных слов следует, видимо, искать на других путях. В этом случае внимание должно быть привлечено к и. — евр. *kret- 2 "бить", "ударять" и *kret- 1 "трясти", "перетряхивать" (Pokorny 1959, I, 620–621), которые скорее всего могут быть поняты как две филиации единого источника, обозначавшего предположительно такое трясение–перетряхивание сыпучей субстанции, которое имеет своей целью избавление от всего лишнего с тем, чтобы в результате осталось нужное. Вероятно, можно говорить и о специализированном значении *kret- в акустическом коде — "шуметь", "верещать" и т. п.: шум как результат трясения–перетряхивания (ср. русск. грохать, грохотать и т. п. "стучать", "стукать", "ударять"; "издавать шум" при грох, грохот, грохоты как обозначениях большого решета, в которое помещают сыпучее вещество — зерно, порох, землю и т. д. для просеивания). Это сепарирование нужного от ненужного, лишнего можно представить себе как такое трясение, перетряхивание, взбалтывание сыпучего вещества, например, зерна, при котором об–бивается и отъединяется от нужного все лишнее, как в решете для очистки зернового хлеба. Отчасти то же происходит и при перебалтывании жидкой субстанции, чтобы увеличить еe густоту, иногда вплоть до твердости (ср. сбивать молоко в сливки, в масло и т. п.). В последнем случае все кончается тем, что жидкая субстанция твердеет и перетряхивание–перебалтывание становится невозможным и акустические эффекты снимаются сами собой: шум исчезает и бывшее жидкое как бы «усмиряется», успокаивается, утихает, укрощается (*u–krotjati : *u–krotjiti). Именно эти значения как раз и являются основными в праслав. *kroteti, *krotiti, krotnoti и в отдельных славянских языках. Строго говоря, этот круг значений и является единственным, а н. — луж. krosis, в. — луж. chrosis "оскоплять", "холостить", "кастрировать", как бы опустошаться, избавляться от лишнего, вполне объясняются из основного семантического круга этих глаголов, хотя следует заметить, что конкретные семантические мотивировки могут, иногда задним числом, привязываться к разным специализированным действиям, объясняющим закрепление в данной традиции данной мотивационной схемы.
Ознакомительная версия.