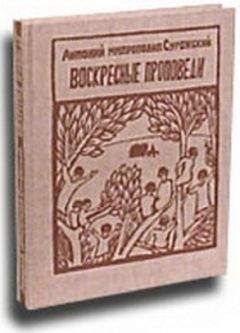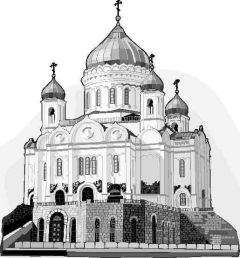Я помню молодого врача (сейчас он занимает кафедру хирургии во Франции), с которым мы обсуждали перед войной аргументы за и против анестезии при той или иной операции, и он прямо заявил, что единственная цель анестезии – облегчить работу хирурга. Страдает ли пациент или нет – совершенно неважно. Я не преувеличиваю, он именно это говорил и имел в виду, он бы разделал пациента живьем, если бы это можно было сделать без помех, без того, чтобы операция не стала труднее и неудобнее для него, врача. Я также встретил во время войны молодого военнопленного хирурга. Он имел доступ к пленным солдатам и офицерам своей страны. Я предложил ему свои услуги в качестве анестезиолога. Он пожал плечами и сказал: «Мы имеем дело с солдатами, они должны быть готовы к страданию». И он оперировал без анестезии всякий раз, когда это не создавало проблем ему. Я помню одну из его операций. У солдата был огромный нарыв на ноге, при вскрытии которого врач отказался применить анестезию. Он оперировал без наркоза, солдат выл и ругался. Когда операция кончилась, к пациенту вернулось самообладание, и, будучи дисциплинированным и хорошо вымуштрованным солдатом, он извинился перед лейтенантом за свои выражения. И, я помню, тот ответил: «Ничего, ваши выражения были соразмерны вашей боли, я вас извиняю». Но ему и в голову не пришло, что боль была соразмерна его бесчеловечности и полному отсутствию чувства солидарности.
Я даю вам эти примеры потому, что, хотя такие ситуации встречаются не каждый день, люди теряют восприимчивость и порой в самой обычной ситуации могут быть столь холодны, до такой степени лишены человеческого сострадания, чуткости, что теряют право считаться медиками. Они мясники, техники, но не медики. Французский писатель Ларошфуко говорит: «У нас у всех достанет сил, чтобы перенести несчастья ближнего»{18}. Именно этого медик не вправе делать, таким он не может быть. В основе отношения врача к пациенту, к проблеме болезни, ко всей этике и философии медицины лежит сострадание, чувство солидарности, уважение и благоговение перед человеческой жизнью, отдача тому единственному человеку, который сейчас перед ним. Без этого медицинская деятельность может быть чрезвычайно научной, но потеряет самую свою суть.
Однако сострадание не означает сентиментальность. Те из вас, из нас, у кого есть опыт трагических ситуаций, в хирургии или при неотложной медицинской помощи, особенно в напряженных обстоятельствах и ситуациях, прекрасно знают, что следует оставаться без эмоций, по крайней мере, пока мы заняты пациентом. Невозможно оперировать под обстрелом в состоянии волнения; стреляют по вам или нет, все ваше внимание должно быть сосредоточено на пациенте, потому что он важнее вас, вы существуете ради него, единственный смысл вашего бытия – он, его нужда. Сострадание – не сочувствие того рода, какое мы временами испытываем, которое порой ощутить легко, а порой вызывается ценой больших усилий воображения. Это не попытка испытать то, что чувствует другой, ведь это просто невозможно, никто не может пережить зубную боль своего ближнего, уж не говоря о более сложных эмоциях, в тот момент, когда человек узнает, что у него рак или лейкемия, что его подстерегает смерть, что ему предстоит умереть.
Но что нам доступно – это чувствовать боль, собственную боль по поводу чужого страдания. Это очень важное различие: надо пройти воспитание, надо решиться воспитывать в себе способность отзываться всем умом, всем сердцем, всем воображением на то, что случается с другими, но не стараться ощутить почти нутром, почти физически страдание, которое не наше, эмоцию, которая не принадлежит нам. Пациент не нуждается в том, чтобы мы ощущали его боль или его страдание, он нуждается в нашей творческой отзывчивости на его страдание и его положение, нуждается в отклике достаточно творческом, чтобы он подвигнул нас к действию, которое в первую очередь коренится в уважении, в благоговении по отношению к этому человеку. Не к анонимному пациенту, не к седьмой койке тринадцатой палаты, но к человеку, у которого есть имя, возраст, черты лица, у которого есть муж или жена, или возлюбленный, или ребенок. К кому-то, кто должен стать для нас до предела конкретным и чья жизнь, следовательно, значительна не только потому, что таково наше отношение к жизни вообще, не потому, что нас научили, что наша цель – оберегать жизнь, продлевать ее как можно дольше, но потому, что этот определенный человек, нравится он мне или нет, значителен.
Но для кого? На этот вопрос мы можем ответить по-разному, согласно нашей вере или ее отсутствию. Если мы христиане, если мы вообще верим в Бога, если мы верим, что никто не приходит в этот мир иначе как призванный быть, желанный, возлюбленный Богом любви, тогда этот человек значителен по крайней мере для Бога. Но (боюсь, это мы забываем очень легко) нет человека, который не был бы значителен хоть для кого-то. Это касается и злодеев, военных преступников, людей, которых мы обвиняем в бесчеловечности. Кто бы он ни был, у него есть мать, жена, брат, сестра. Возможно, самые близкие люди, действительно любящие того, кого – как представляется нам – следует не любить, а только осудить, знают лишь одну сторону его личности. Вполне возможно, что та сторона, которую знают они, столь же реальна, как та, которую знаем мы, но неизвестна им. В одной из глав «Архипелага ГУЛАГ» Солженицын подчеркивает тот факт, что человек, мужчина или женщина, совершенно по-разному предстает различным сталкивающимся с ним людям; и он цитирует разговор, который был ему передан. Один из самых жестоких следователей был женат, и однажды его жена, которая знала его под совершенно иным углом, сказала подруге: «Мой муж такой хороший следователь! Он рассказывал мне, что был заключенный, который неделями отказывался признаться в своих преступлениях, пока его не отправили к моему мужу, и после ночи беседы муж вынудил у него полное признание»{19}. Эта женщина понятия не имела о том, каким образом это признание было получено. Она не знала мужа с этой стороны. Разумеется, это крайний пример, но никто из нас не знает других со всех сторон.
Мы очень мало знаем себя, мы и не подозреваем, каким человеком мы способны стать при неожиданных обстоятельствах, не под давлением, а просто потому, что мы внезапно растворяемся в анонимности. Столько случается с людьми во время войны, столь многое люди совершают из-за своей безликости: у человека нет имени, он просто один из множества солдат. Я настаиваю на этом, потому что очень легко в некоторых ситуациях сказать, что жизнь данного человека не имеет значения, в то время как жизнь другого важна. Оставляя в стороне ту абсолютную ценность, которую Бог придает каждому из нас, несомненно, что, если мы спросим самих себя или Писание, какова ценность каждого из нас в глазах Бога христиан, мы можем ответить: вся жизнь, вся смерть Христовы… Но, кроме того, как я уже сказал, никто, ни один человек в мире не одинок. Всегда есть кто-то, для кого он значителен, и наше отношение как медиков должно быть – благоговение к жизни, не просто в общих словах, но в конкретном призвании: он значителен, она значительна; как бы это мне ни было непостижимо, есть кто-то, для кого его смерть, ее страдание – острая боль и подлинная трагедия.
В отношениях между медиком и пациентом есть и другая сторона, которая также связана с чувством сострадания, человеческой солидарностью, с благоговением к его личному, единственному, неповторимому существованию. Это то, как пациент отдает себя в руки врача. Тут есть элемент, который представляется мне очень важным. Врач – это человек, у кого есть сознание значимости и, я бы сказал, священности человеческого тела. Пока мы здоровы, мы думаем о себе как о существах духовных. Конечно, у нас есть тело, которое позволяет нам передвигаться из одного места в другое, действовать, наслаждаться жизнью; мы обладаем пятью чувствами, у нас есть сознание, чувствительность – и все это мы рассматриваем в терминах нашего духовного бытия. Мы принимаем свое тело как нечто само собой разумеющееся, в каком-то смысле мы им пользуемся, как только можем, но никогда не думаем о нем (или думаем очень редко) как о партнере, равноправном с душой. Однако когда это тело слабеет, когда болезнь, боль поражают наше тело, тогда мы внезапно обнаруживаем, что мое тело – это я сам. Я – не мое смятенное сознание, не мои чувства, полные тревоги, я – то тело, которому теперь грозит гибель, которое полно боли. Болезнь эта – не обязательно рак, мы можем лезть на стену от зубной боли. Я однажды попробовал вести себя аскетически или героически: у меня разболелся зуб, и я решил, что буду просто терпеть – разве я не чисто духовное существо? Мой чистый дух терпел боль в течение дня все с бóльшим трудом, затем настала ночь, и я не мог спать. Как ни странно, мой возвышенный дух не спал из-за моего жалкого тела. И около двух часов ночи я порылся в ящике с домашними инструментами и вырвал свой зуб клещами, которые обычно служили для вытаскивания гвоздей.