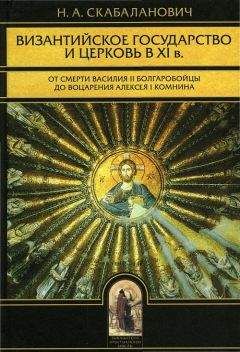Пятый отдел содержит историю царствования Михаила Калафата, шестой — Константина Мономаха, Зои и Феодора, седьмой — Михаила Стратиотика и Исаака Комнина. В этих отделах Пселл пишет уже не с чужих слов, но как очевидец и участник в тех событиях, которые описывает. Калафата он знал еще в звании кесаря[102] а в звании императора мог узнать еще ближе, сделавшись его подсекретарем;[103] во время народного бунта против Калафата тщательно наблюдал за ходом событий,[104] входил в сношение и беседовал с главными деятелями движения.[105] Пользуясь при Мономахе (сначала в качестве секретаря, потом протоасикрита и ипата философов) безграничным доверием императора[106] и благосклонностью членов императорской семьи,[107] хорошо знакомый с выдающимися деятелями того времени,[108] он был посвящен решительно во все тайны;[109] не было важного случая, в котором бы обходились без его совета и решения.[110] При важнейших событиях царствования Феодоры и Стратиотика он присутствовал в качестве простого зрителя, а не деятеля.[111] Но с момента возмущения Комнина опять видим его в роли деятеля,[112] а после вступления Комнина на престол он делается приближеннейшим к императору человеком, дает ему советы,[113] по возможности не расстается,[114] а во время разлуки ведет с ним оживленную переписку,[115] входит в близкие сношения и с членами царской семьи.[116] При таких условиях Пселл не нуждался в чужих сообщениях. Только в те небольшие промежутки, когда он не успел еще приобрести сильного влияния при дворе (при Калафате) или когда считал нужным держаться в некотором отдалении от двора (при Феодоре и Страти–отике), сообщения других лиц могли иметь для него важность, каковыми сообщениями он и пользовался для своих записок.[117] Во все же остальное время собственный его опыт был авторитетнее всякого свидетельства; данные, сообщаемые в записках на основании этого опыта тем ценнее, что автор твердо решился соблюдать беспристрастие и, если признавал возможным сообщить о том или другом факте, то сообщать одну лишь истину.[118]
При Константине Дуке Пселл, вполне пользуясь императорской благосклонностью, имел решающий голос во многих важных вопросах,[119] в царствование Евдокии, Диогена и Парапинака нередко обходились в политических делах без его участия, но иногда прибегали и к его содействию.[120] Главное же, что все совершалось на его глазах, хотя не всегда по его мысли, следовательно, и во второй части записок Пселл мог основываться на личном опыте. И действительно, источником его для второй части служит личный опыт. Из автобиографии Михаила Парапинака (до нас не дошедшей) Пселл едва ли что–нибудь заимствовал, судя по тому, что в автобиографии император говорил о себе со скромностью и самоуничижением,[121] а в записках о нем говорится лишь с похвалой.
2) История Михаила Атталиота,[122] который был современником Пселла и стоял в близких отношениях ко двору во второй половине XI в.
История эта написана при императоре Никифоре Вотаниате около 1080 г.[123] Побуждение к ее написанию сам автор указывает в желании представить для потомства в лице Вотаниата пример, достойный подражания;[124] из того, что сочинение посвящено Вотаниату и наполнено похвалами ему, можно заключить, что, независимо от этого желания, у автора имелось еще в виду обратить на себя милостивое внимание императора.
Приступая к истории, Атталиот предупреждает, что поведет рассказ не о том, что слышал или узнал от других, но что видел собственными глазами.[125] После такого предупреждения он начинает речь с царствования Михаила Пафлагона (1034) и оканчивает вторым годом царствования Никифора Вотаниата (1079), обнимая, таким образом, своим рассказом пространство времени в 45 лет. Хотя физически возможно, что автор мог быть очевидцем описываемых событий в течение этого довольно продолжительного времени, однако же представляется более соответствующим сущности предмета относить его заявление (что будет рассказывать лишь виденное собственными глазами) главным образом ко времени со вступления на престол Романа Диогена. К этому побуждает прежде всего то обстоятельство, что Атталиот является в деятельной роли при дворе и при особе императоров лишь с 1067 г.,[126] о государственной же службе до этого времени неизвестно, была ли она по своему качеству и месту прохождения такого рода, чтобы дать возможность видеть своими глазами главнейших государственных деятелей и наблюдать течение важнейших событий. Еще более побуждает к тому различие двух половин истории, первой — до воцарения Романа Диогена, второй — с его воцарения: первая излагает события кратко и сжато, вторая подробно и обстоятельно; в первой автор забывает о своей личности,[127] во второй ссылается местами на свой опыт; в первой встречаются неточности,[128] во второй их нет; отличительная особенность первой — полнейшее беспристрастие и объективность, во второй эта особенность ослабевает, субъективный колорит ложится на рассказ.
Впрочем и во второй части Атталиот, опираясь преимущественно на личное наблюдение и опыт, не устранял вполне и свидетельства других лиц; по крайней мере, для царствования Михаила Парапинака, когда положение его при дворе несколько пошатнулось, личные свои наблюдения он считал недостаточными и пользовался показаниями какого–то близкого себе приятеля, который клятвенно засвидетельствовал искренность своих показаний.[129] Субъективный колорит, обнаруживающийся во второй части, не исключает истинности повествования. Сведения о фактах автор сообщает верные и лишь оценивает факты под своим углом зрения; он не чужд пристрастия, но его пристрастие выражается не в извращении фактической истории, а в тех отступлениях и суждениях, которые нетрудно выделить из общего содержания книги и оценивать как личное настроение автора или, по большей мере, той партии, к которой он принадлежал. Отличенный Диогеном, Атталиот сверх меры превозносит его и даже его мятежнические наклонности считает достоинством и проявлением патриотизма;[130] сыплет укоризны на голову Михаила VII, в котором видит виновника несчастной доли Диогена,[131] в последовавших затем вторжениях турок усматривает гнев Божий за преступление против этого великого человека;[132] порицает все управление Михаила VII, которому не симпатизирует до такой степени, что не желает даже назвать имени его воспитателя (Пселла); наконец, на узурпаторство Вотаниата смотрит как на подвиг, как на самоотверженную жертву во благо православных христиан.[133] Все это — субъективные взгляды, которые легко отбросить, и тогда получится чистое зерно, неповрежденная историческая истина. По направлению взглядов, нашедших себе место в истории, Атталиот составляет диаметральную противоположность Пселлу: один порицает Диогена и восхваляет Михаила Парапинака, другой превозносит Диогена и осуждает Парапинака. Показания их о том и другом государе дают возможность взаимной проверки, исправления и восполнения.
Из заключительных слов истории[134] видно, что Атталиот намерен был продолжать сочинение. Но выполнил ли он свое намерение — мы не знаем, по крайней мере, продолжения не имеем.
3) Хроника Иоанна Скилицы,[135] младшего современника Пселла и Атталиота, занимавшего должность при византийском дворе в конце XI в.[136] Хроника написана с целью дать потомству беспристрастное и вполне достоверное продолжение хроники Феофана Исповедника, законченной царствованием Никифора I (811). Скилица начал хронику с того пункта, на котором остановился Феофан, и довел до последнего времени царствования Никифора Вотаниата. Хроника представляет одно цельное сочинение; когда автор писал предисловие (в котором упоминает о Пселле), в уме его предносилась уже история Константина Дуки (при изложении которой он обращается к Пселлу, как к источнику); последующие писатели (Зонара, Глика, Иоил) знали хронику в цельном составе, а не одну какую–нибудь из предполагаемых редакций.[137]
Скилица приступил к составлению хроники около 1075 г., после того как вышла в свет вторая часть записок Пселла. Ко времени выхода в свет истории Атталиота (1080) он довел хронику до Исаака Комнина, окончил же ее в начале царствования Алексея Комнина.[138]