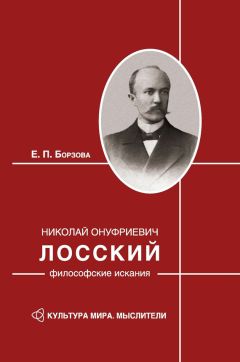Наконец, если бы какой-либо скептик стал утверждать, что он лишён всякой возможности сравнить состояния познающей субстанции с состояниями внешнего мира и потому вовсе не может решить вопроса об адекватности ни в положительную, ни в отрицательную сторону, то и это не спасло бы его от противоречия. Если в самом деле все состояния, входящие в познавательный процесс, целиком суть акциденции, принадлежности самого познающего субъекта, то тогда не может быть и рассуждений о каком-то внешнем мире, а следовательно, не может быть и речи об адекватности или неадекватности знания; самая постановка этого вопроса показывает, что предпосылки скептика, склонившие его к отрицанию знания, были ложны или же, что скептик, рассуждая об адекватности знания, произносил какие-то фразы, лишенные всякого доступного человеческому уму смысла.
Подобные же затруднения и противоречил встречаются и в решении других гносеологических вопросов при упомянутом учении о субстанции и вытекающем отсюда представлении о принадлежности знания познающему субъекту. Все они зависят от одной и той же причины: знание о внешнем мире и самый внешний мир при этих предпосылках не совпадают, отношения между ними или вовсе нет, или оно трансцендентное, а если так, то гносеология никоим образом не может свести концы с концами. Однако факт знания внешнего мира налицо, и, следовательно, если при каких-либо предпосылках он становится необъяснимым или если его приходится отрицать, то это значит, что гносеология должна вернуться к своим предпосылкам и пересмотреть их, пользуясь анализом этого факта. Быть может, нам возразят, что понятие субстанции, сколько бы мы ни пересматривали свои предпосылки, всё же должно сохраниться в мышлении, а потому не все ли равно, начнем ли мы теорию знания без всяких предпосылок или с указанными выше предпосылками; рано или поздно понятие субстанции выступит на сцену, а вместе с ним и те положения, которые затрудняют учение о познании и даже делают его неизбежно противоречивым. В ответ на это заметим, что несомненно в опыте есть что-то, заставляющее нас все возвращаться к этому понятию, но фактические материалы его ещё вовсе не все рассмотрены философиею; это видно из того, что философия под влиянием все новых и новых анализов и углубления в сферу действительности постепенно преобразует это понятие. Если догматически положить в основу гносеологии это понятие в той форме, как оно установлено на основании рассмотрения непознавательных процессов, то, без сомнения, оно может оказаться камнем преткновения для теории знания. Наоборот, если пойти по пути, указанному Кантом и соответствующему требованиям логики, именно, начать гносеологию без всяких предпосылок с анализа факта знания, тогда возможно, что на пути анализа у нас сложится новое понятие субстанции, которое перестанет быть препятствием для теории знания.
Впрочем, вернёмся к рационалистам, чтобы окончательно убедиться в том, что перечисленные выше предпосылки ставят философа в безвыходное положение при исследовании гносеологических вопросов. Рационалисты были уверены в том, что адекватное трансцендентное знание существует. Но как оно возможно? Если знание о внешнем мире целиком есть принадлежность познающего субъекта как субстанции, то мыслимы только два пути возникновения его. Оно или возникает в познающем субъекте как результат действия на него субстанций внешнего мира, или же развивается из недр самого познающего субъекта, благодаря его собственной деятельности и собственным средствам. Самостоятельная познавательная деятельность субстанции есть мышление, т. е. обнаружение разума. Итак, в первом случае знание есть результат опыта, а во втором случае – результат деятельности разума. В первом случае оно есть копия, произведенная, так сказать, толчками самого внешнего мира, во втором случае эта копия производится самою познающею субстанциею из собственных материалов своего духа.
Считая опыт результатом воздействия внешнего мира на я [XXXIX], рационалисты опять проявляют сходство в своих предпосылках с эмпиристами. Из этого, однако, не следует, будто они необходимо должны были оценивать опыт точь-в-точь так же, как и эмпиристы. В основе их построений есть одна предпосылка, дающая им возможность развить совершенно иную теорию опыта. Понятия действия и причины оцениваются ими совершенно иначе, чем эмпиристами. По мнению эмпиристов, причина и действие могут вовсе не походить друг на друга, могут относиться к совершенно различным видам действительности; поэтому, зная свои ощущения, мы вовсе не знаем природы тех внешних сил, которые их произвели. Наоборот, рационалисты думают, что между причиною и действием существует точное соответствие. Они относятся друг к другу как основание и следствие, так что в действии не может быть ничего, что бы не заключалось уже в причине. Действие не представляет собою действительности совершенно иного порядка, чем причина: в нём есть налицо элементы причины. Поэтому, утверждая, что опыт есть результат действия не-я на я, рационалисты вовсе ещё не были обязаны утверждать полную субъективность опыта и непригодность его для приобретения адекватного знания о внешнем мире. Они могли бы допустить, что в опыте внешний мир, хотя бы отчасти, познается непосредственно, имманентно, и притом с такою же непосредственностью, как собственные наши душевные состояния. Однако напрасно мы бы надеялись найти у рационалистов теорию непосредственного восприятия внешнего мира. Безотчетное противоположение мира я миру не-я, если оно предшествует сознательному построению теории знания и ложится в основу её, неизбежно склоняет к скептическому учению о субъективности опыта в духе взглядов Юма. К тому же рационалисты, как и эмпиристы, рассуждая об опыте, имеют в виду не столько восприятие в целом его составе, сколько ощущения, т. е. чувственные элементы восприятия, исследование которых особенно легко склоняет к мысли, что материалы опыта неадекватны внешнему миру. Наконец, и онтология рационалистов, лежащая в основе их гносеологии, заставляет их скептически относиться к чувственному опыту. Под влиянием этих разнообразных мотивов они приходят к мысли, что опыт складывается из состояний познающего субъекта, не адекватных процессам внешнего мира. Так как онтологии их различны, то каждый из них устанавливает эту важную предпосылку по-своему. Декарт подкрепляет её главным образом с помощью эмпирических доводов вроде того, как это делает Локк, опираясь на физику и физиологию. Он ссылается на оптические иллюзии, сновидения, состояния ампутированных людей и т. п.; особенно характерны в этом отношении его рассуждения о том, почему мы нередко неправильно локализируем ощущения [XL]. Таким образом, он, по-видимому, противоречит рационалистическому учению об отношении между причиною и действием, и это противоречие не примирено у него в достаточной степени, так как вообще его учение о чувственности недостаточно развито.
Спиноза не считает человеческий дух субстанциею, и потому его гносеология свободна от одной из важнейших предпосылок, склоняющих к отрицанию непосредственности знания в чувственном опыте. И в самом деле, он признает, что в чувственном опыте есть транссубъективные элементы. Это необходимо следует из аксиомы, согласно которой все состояния, какие принимает какое-нибудь тело от действия другого тела, вытекают из природы подверженного действию тела и вместе из природы тела, производящего действие [XLI]. Следовательно, когда человеческое тело подвергается воздействию других тел, то в нём возникает перемена, содержащая в себе отчасти элементы природы внешнего мира, отчасти элементы самого человеческого тела. Из этого, однако, Спиноза не делает вывода, что из чувственного опыта можно извлечь адекватное знание о внешнем мире. Такой продукт взаимодействия тел заключает в себе транссубъективные и субъективные элементы в отрывочной и спутанной форме; он сознается человеческою душою как смутная идея, в которой нельзя разобраться, как "заключение без посылок". Такое знание, – говорит Спиноза, – не даёт адекватного представления не только о внешнем мире, но даже и о самой душе познающего субъекта [XLII]. Таким образом, Спиноза ещё меньше ценит чувственный опыт, чем Декарт.
Лейбниц также думает, что опыт складывается из чувственного знания, что это знание обусловлено взаимодействием нашего тела с другими телами (как известно, Лейбниц отрицает реальное взаимодействие между субстанциями, но он допускает идеальное взаимодействие между ними в некотором особом смысле этого слова) и что оно заключает в себе объективные элементы. "Существует известная связь, – говорит Лейбниц, – между восприятиями цветов, теплоты и других чувственных качеств, с одной стороны, и соответствующими им движениями в телах, с другой: между тем как картезианцы и наш автор (Локк), несмотря на всю его проницательность, считает наши восприятия этих качеств как бы произвольными, т. е. как будто Бог даровал их душе, как ему заблагорассудилось, без всяких соображений о какой-либо существенной связи между восприятиями и их предметами; мнение, которое поражает меня и кажется мне мало достойным премудрости Создателя, не творящего ничего без гармонии и разумного основания" [XLIII]. Однако Лейбниц, как и Спиноза, думает, что чувственный опыт даёт всегда смутные идеи, непригодные для получения адекватного знания о внешнем мире, но причину этой смутности он усматривает не в смешении объективных элементов с субъективными, а в сложности внешнего мира. "Восприятия наших чувств, – говорит Лейбниц, – даже тогда, когда они бывают ясны, необходимо должны заключать в себе некоторое смутное чувствование; так как все тела во вселенной, так сказать, сочувствуют друг другу, то и наше тело получает впечатлении от всех других и, хотя наши чувства находятся в отношении со всем, но душа наша не может обращать внимания на каждую частность всего" [XLIV]. Примером такого смутного знания могут служить восприятия цветов и запахов. "В восприятии цветов и запахов мы не имеем ничего иного, кроме восприятия фигуры и движений, которые, однако, так многообразны и так малы, что наш дух в его настоящем состоянии не способен отчётливо созерцать их в отдельности и потому не сознает, что его восприятия состоят лишь из восприятий очень малых фигур и движений, – подобно тому, как при восприятии зеленого цвета, составленного из пылинок желтых и синих, мы в действительности воспринимаем лишь мельчайшие смешения синего и желтого, хотя мы этого не сознаем и представляем себе скорее нечто совершенно новое" [XLV].