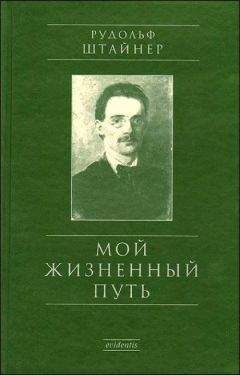В тот же период завязалась еще одна значительная для меня юношеская дружба с одним молодым человеком[34]. Все в нем представляло полную противоположность белокурому юноше. Он чувствовал себя поэтом. С ним также мы долго и оживленно беседовали. Он пылал страстью к поэзии и с ранних лет брался за великие задачи. Когда мы с ним познакомились, он уже был автором трагедии "Ганнибал" и многих лирических стихотворений.
Вместе с этими друзьями я посещал в Высшей школе шрёэровские "Практические занятия по словесному докладу и письменному изложению", которые пробуждали как в нас троих, так и во многих других интерес к прекрасному. Мы, молодые люди, могли читать здесь свои произведения, которые Шрёэр тут же обсуждал с нами, возвышая наши души своим изумительным идеализмом и способностью к благородному воодушевлению.
Мой друг часто сопровождал меня, когда я посещал Шрёэра на дому. Там он всегда оживал, в то время как обычно над всеми его жизненными проявлениями довлело нечто гнетущее. Внутренний разлад мешал ему найти себя в жизни. Его не привлекала ни одна профессия; ни за что не брался он с радостью. Всецело поглощенный поэтическими интересами, вне их он не мог найти какой-либо связи с жизнью. В конце концов он вынужден был поступить на совершенно безразличное ему место. С ним также я вел переписку. Душу его грызло сознание того, что даже собственное поэтическое творчество не может дать ему настоящего удовлетворения. Жизнь не наполнялась для него чем-либо ценным. Читая его письма и беседуя с ним, я, к моему сожалению, обнаружил, что в нем постепенно стало складываться убеждение, будто он страдает неизлечимой болезнью. Ничто не могло рассеять это ни на чем не основанное подозрение. И вот однажды я получил известие, что этот столь близко стоявший ко мне человек покончил с жизнью.
Очень тесная дружба завязалась у меня с одним молодым человеком[35], приехавшим в Венскую техническую школу из немецкой Трансильвании. С ним тоже я впервые встретился на шрёэровских занятиях. Он читал там доклад о пессимизме. Все, что Шопенгауэр говорил об этом мировосприятии, ожило в этом докладе. К этому прибавился и собственный пессимистический настрой молодого человека. Я вызвался возражать по докладу и стал "опровергать" пессимизм громовыми словами, уже тогда называя Шопенгауэра "ограниченным гением", и завершил свое выступление словами: "Если господин докладчик прав в своем представлении пессимизма, то лучше мне быть деревянной балкой, на которой я стою, чем человеком". В кругу знакомых еще долго подшучивали надо мной, повторяя эти слова. Но это же сделало молодого пессимиста и меня хорошими друзьями. Мы часто встречались с ним. Он тоже чувствовал себя поэтом. Часами я сидел у него в комнате, с удовольствием слушая его стихи. К моим тогдашним духовным устремлениям он относился с горячим интересом, который, правда, основывался не столько на том, что занимало меня, сколько на личной любви ко мне. Часто у него завязывалось прекрасное юношеское знакомство или юношеская любовь. Для его жизни это было необходимо, ибо она складывалась у него тяжело. Он окончил школу в Германштадте, не имея достаточных средств к существованию, и должен был зарабатывать на жизнь частными уроками. Затем у него возникла гениальная мысль продолжить из Вены частные занятия со своими учениками, живущими в Германштадте, с помощью переписки. Науки, преподаваемые в Высшей школе, интересовали его мало. Но однажды он все же решил сдать экзамен по химии. Он никогда не посещал лекций и не прикасался к учебникам. В последнюю ночь перед экзаменом он попросил одного из своих друзей прочитать ему краткий конспект всего предмета. За этим чтением он, в конце концов, и уснул, но наутро все же отправился с этим приятелем на экзамен. Оба они, конечно же, "блестяще" провалились.
Этот молодой человек питал ко мне безграничное доверие. Одно время я служил ему чем-то вроде духовника. Он раскрывал перед моей душой историю своей интересной, часто печальной жизни, полной любви ко всему прекрасному. Он привносил в наши отношения столько доверия и любви, что иной раз было очень трудно не разочаровать его. Это случалось тогда, когда ему казалось, что я уделяю ему недостаточно внимания. Но иначе и не могло быть, ведь круг моих интересов часто не находил у него понимания. Все это, однако, в конце концов приводило к тому, что наша дружба становилась еще крепче. Летние каникулы он всегда проводил в Герман-штадте. Там он снова набирал учеников, чтобы затем руководить из Вены посредством корреспонденции их обучением. Я получал от него всегда длинные письма. Он очень страдал от того, что я редко или даже совсем не отвечал на них. Но когда осенью он возвращался в Вену, то сразу же, как мальчик, прибегал ко мне, и совместная жизнь начиналась снова. Именно ему я обязан тем, что познакомился и общался со многими людьми. Он любил приводить меня к тем людям, с кем его связывали дружеские отношения. Я, в свою очередь, жаждал общения. Этот друг вносил в мою жизнь много такого, что давало мне радость и тепло.
Дружба эта сохранилась на всю жизнь — вплоть до смерти моего друга, последовавшей несколько лет тому назад. Она выдержала немало жизненных бурь, и еще многое будет о ней сказано.
Когда оглядываешься назад, в сознании всплывает многое из человеческих и жизненных отношений, которые и сегодня еще в полной мере живут в душе в ощущениях благодарности и любви. Я не могу вдаваться здесь в подробности и вынужден опускать многое из того, что в моих переживаниях было и остается мне очень близким.
Мои юношеские дружеские связи того времени, о которых я здесь упоминаю, находили весьма своеобразное отражение в моей дальнейшей жизни. Они принуждали меня к своего рода двойной душевной жизни. Борьба за разрешение загадок познания, переполнявшая тогда мою душу, хоть и вызывала всегда сильный интерес у моих друзей, однако у них не возникало желания деятельно участвовать в ней. В переживании загадок познания я был одинок. Но сам я активно участвовал во всем, что происходило в жизни моих друзей. Таким образом, во мне уживались два жизненных течения: одно, в котором я был одиноким путником, и другое, протекавшее в живом общении с полюбившимися мне людьми. Переживания второго рода во многих случаях также имели для моего развития глубокое и длительное значение.
Здесь я должен вспомнить об одном друге[36], с которым мы учились в Винер-Нойштадте. Тогда мы не были близки. Подружились мы только в Вене, где он часто навещал меня и где позднее стал служащим. Но уже в Винер-Нойштадте проявилось — без каких-либо внешних отношений — его значение для моей жизни. Однажды мы были с ним на уроке гимнастики. Приступая к гимнастическим упражнениям, он оставил возле меня книгу. Это была книга Гейне: "Романтическая школа" и "История философии в Германии". В тот момент я не был занят и заглянул в нее. Это стало поводом к прочтению всей книги. Я вынес из нее многое, но манера Гейне, с какой он говорил о близком мне жизненном содержании, сильно отталкивала меня. Содержание совершенно противоположного мне образа мыслей и направления чувств побуждало задуматься над выбором внутренней жизненной ориентации, соответствующей моим душевным наклонностям.
Я заговорил с товарищем о книге. При этом проявилась внутренняя жизнь его души, что позднее стало основанием нашей длительной дружбы. Он был замкнутым человеком и раскрывался лишь немногим. Большинство людей считало его чудаком. С теми же, с кем он хотел быть откровенным, он становился, в особенности в письмах, весьма многословным.
Ему казалось, что, благодаря внутреннему предрасположению, он призван быть поэтом и несет в своей душе огромное богатство. При этом в своем отношении к людям, в особенности к женщинам, он был склонен к мечтательности и не решался вступать в эти отношения наяву. Иногда он был весьма близок к этому, но довести их до настоящих переживаний ему никогда не удавалось. В беседах со мной эти грезы переживались им с такой искренностью и воодушевлением, как если бы они были реальностью. Но, как это обычно случается, грезы рассеивались, оставляя за собой горькое чувство.
Все это рождало в нем душевную жизнь, которая не имела ничего общего с его внешним бытием. Но и эта жизнь была для него предметом мучительного самоанализа, находившего отражение в многочисленных письмах ко мне и беседах со мной. Так, однажды он прислал мне длинное разъяснение по поводу того, что для него как самое малое, так и величайшее переживание становятся внутренними символами, с которыми ему и приходится жить.
Я любил этого друга, и любовь заставляла меня относиться с участием к его грезам, хотя, общаясь с ним, я все время ощущал, что мы витаем в облаках, не имея под собой почвы. Для меня, неустанно стремившегося искать в познании прочный жизненный фундамент, это было своеобразным переживанием. При встречах с ним мне все время приходилось как бы выскальзывать из собственного существа и вползать в другую кожу. Ему было хорошо со мной; иногда он пускался в пространнейшие теоретические рассуждения о "различии наших натур". Он и не подозревал, как мало созвучия в наших мыслях, ибо дружеские отношения застилали ему глаза.