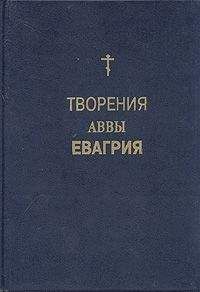938
Образное отождествление «терний» с грехом не раз встречается в древнецерковной письменности. См., например, у блж. Феодорита, который, толкуя Пс. 31, 4 (е^да унзе жм терн), говорит: «Причина бед моих — грех, который возрастил я вместо грозда, и уязвляюсь им непрестанно. Ибо грех он назвал терном, как произрастание негодное, для того и возросшее, чтобы язвить» (Творения блаженного Фео–дорита. Ч. II. С. 147).
Ср. опять у блж. Феодорита, который, обращаясь в одном из своих посланий к некоему монаху Андрею, пишет: «Никогда не видев твоего благочестия и не имев случая беседовать чрез письма, я сделался преданнейшим твоим почитателем. Вызвало эту любовь и постоянно воспламеняет ее то, что согласно говорят вкусившие твоего меда. Ведь все удивляются правоте веры, блеску жизни, твердости души, внутренней гармонии, увлекательности и приятности обращения и всему другому, что характеризует питомца любомудрия» (Творения блаженного Фео–дорита, епископа Киррского. Письма блаженного Феодорита. Вып. I. Сергиев Посад, 1907. С. 185). И у Иперехия, и у блж. Феодорита подразумевается, что слова являются ясным излучением чистоты души человека.
Одно из посланий преп. Нила гласит: «Некоторые называют пророков пчелами, а Священное Писание — ульем их. Поэтому хорошо внять Соломону, глаголющему: Яждь жед, еыме, блж бо еежь еож, да маеладмжея ^оржамь жеом (Притч. 24, 13). Пищей сладкой и подобной меду именует он чтение глаголов [Святого] Духа и размышление (τ^ν μελέτην) над ними» (PG. T. 79. Col. 180). Иперехий, сравнивая монахов с пчелами, подразумевает, что они являются подражателями пророков и продолжателями их дела.
Так цитирует Иперехий, сочетая Лк. 6, 21 и Мф. 5, 5. Согласно св. Амвросию, это «блаженство» предполагает плач о преходящем и взыскание вечного (Деге оссЫмя е^ ея ^мяе яе^егня змн^, ^мяегеге). См.: ^ж^го^зе Ые Mi/ян. Traite sur l'Evangile de S. Luc. T. I. P. 207).
В тексте «Патрологии» Миня — «ангельскими глаголами» (ρήμασί δε άγγελίχοΓς), но мы следуем чтению М. Тиро, опирающемуся на более достоверные рукописи.
Согласно толкованию преп. Максима Исповедника, данные слова Молитвы Господней означают следующее: молящийся, «сознавая себя смертным по природе. оставляет долги должникам, а затем, ввиду неизвестности [смертного часа], каждый день ожидает естественно неизбежного и своей волей предупреждает природу, становясь самовольным мертвецом для мира, по словам [Псалмопевца]: Гебе радм умерщеляемся еесь день, еменмхомся яко ое^ы зажоле–нмя (Пс. 43, 23). Вследствие этого он примиряется со всеми, чтобы, преставляясь к жизни неувядающей, не принести с собой порочности нынешнего века и чтобы получить от Судии и Спасителя всех в равное воздаяние то, что здесь [на земле] взял в долг» (Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. 1. С. 199). Иперехий еще подчеркивает, что словa этой молитвы не могут вмещаться в сердце человека одновременно со словами злыми и лукавыми, ибо они взаимно исключают друг друга.
Античный идеал «мудреца» (и «мудрости»), оказавший определенное влияние на христианское миросозерцание, претерпел в религии Христовой существенное изменение, ибо мудрость человеческая здесь немыслима без причастия Божией Премудрости, то есть Господу нашему Иисусу Христу. Среди древнецерковных аскетических писателей мысль эту ясно выразил, например, Евагрий Понтийский в одной из своих схолий: «Если есякому. мужу глаеа Лрмсжос (1 Кор. 11, 3), а мудрый является мужем (άν% 0а χα< ό σοφός), то Христос, естественно, Глава ему. Но Христос есть наша Премудрость (ήμών σοφ<α εστ<ν), ибо Он сделался для нас премудростью ож Гога (1 Кор. 1, 30), а поэтому Главой мудрого является Премудрость; устремляя к Ней мысленные очи свои, мудрый созерцает в Ней логосы тварных вещей» (Foagre /e Ponfi^Me. Scholies a l'Ecclesiaste / Ed. par P. Gehin // Sources chretiennes. № 397. Paris, 1993. P. 76). Такая христианская мудрость, будучи еще и «подражанием Христу», предполагает, естественно, единство слов и дел. Этот аспект идеала христианского мудреца запечатлел в своих творениях, например, св. Амвросий, который такого мудреца «представляет и воспитателем людей посредством слов и дел. Его sapiens, относясь более или менее равнодушно к своему собственному благосостоянию, всем, однако, желает добра, со всеми старается поступать хорошо и никому не желает ничего злого. Он не только сам ничего не боится, но также старается и в других ослабить страх пред всякого рода опасностями, пред смертью, болезнями тела. Он научает других, что слабости тела вовсе не могут препятствовать нашей деятельности, а, наоборот, даже возвышают ее, что наше истинное счастье заключается не в знатности рода и не в материальном благосостоянии, а в хорошем внутреннем настроении, что, наконец, для нас гораздо лучше поскорее освободиться от оков тела и быть со Христом» (Адажое И. И. Амвросий Медиоланский. С. 644–645).
Под «разумным монахом» (συνετός μοναχός) подразумевается «монах мудрый», то есть имеется в виду та духовная мудрость монаха (σοφία μοναχού), о которой речь шла в предыдущей главе. О такого же рода мудрости говорится в изданной Д. Бэлфуром «Второй сотнице» преп. Иоанна Карпафского: «Страх Господень — родитель [духовного] разума (γενν^τωρ φρον^σεως); порожденное этим разумом подлинное осуществление заповедей (των εντολών χατόρθωσίς) влечет за собой разумение (σύνεσίν), которое объемлет вместе с мудростью (τ^ς σοφίας) душу, ставшую бесстрастной (μετά τ^ν άπάθείαν), — той мудрости, которая есть ведение вещей божественных и человеческих, а также причин их» (A Supplement to the Philokalia. The Second Century of Saint John of Karpa‑thos by D. Balfour. First Critical Edition in Collaboration with M. Cunningham. Brookline, 1994. P. 60).
Ср. размышление отца Георгия Флоровского: «В смертности человека нужно видеть домостроительную причину крестной смерти. Чрез смерть проходит Богочеловек, и погашает тление, оживотворяет самую смерть. Своею смертию Он стирает силу и власть смерти — «смерти державу стерл еси, Сильне, смертию Твоею». И гроб становится живоносным, становится «источником нашего воскресения»… В смерти Богочеловека исполняется воскресный смысл смерти — «смертию смерть разруши»» (Флороеекмм Г. О смерти крестной // Православная мысль. Вып. II. 1930. С. 163).
Связь «девства» и «милостивости» («милостыни») прослеживается в ряде памятников древнецерковной аскетической литературы. Так, она сама собою подразумевается в сочинении «О девстве», в котором автор обращается к подвижнице так: «О стран–нолюбии и милостыне (περί δε τ^ς φίλοξενίας χαί τ^ς ελεημοσύνης) не имеешь нужды быть наставляемой. Ибо сама по себе сделаешь [это]». Худряе^ее Д. Сочинение св. Афанасия Великого «О девстве». С. 263. Текст: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ, 11. ΑΣΚΗΤΙΚΑ. Σ. 210). Названные две добродетели, вкупе с постом и молитвой, составляют сущностное ядро христианского идеала, заложенного уже в Евангелиях и рельефно оттененного древними отцами–подвижниками, постоянно подчеркивающими, что под девством понимается не внешний целибат, но как бы «девственная чистота мысли» (an inner chastity of thought) (см.: The Collected Works of Georgy Florovsky. Vol. X. The Byzantine Ascetic and Spiritual Fathers. Vaduz, 1987. P. 25–27).
В этом изречении Иперехия примечательно соположение «заповедей Всевышнего» (έντολάς Ύψίστου) и «предписаний отцов» (Πατέρων παραγγελίας), которое указывает на единство Священного Писания и Священного Предания и в области нравственного богословия.
Понятие «видение» (φαντασία) в святоотеческой письменности, как правило, сопровождалось негативными ассоциациями. Блж. Диадох, например, проводит различие между сновидениями (ονείροί), являющимися душе «в любви Божией», которые суть несомненные признаки [духовного] здоровья ее, и ночными видениями от бесов (των δαιμόνων φαντασία;), свойством которых является постоянная изменчивость форм и образов (см.: Dia^o^Me ^e PAo‑fice. Oeuvres spirituelles. P. 106).
«Повиновение» (υποταγή) есть разновидность добродетели послушания (ΰπαχοή), а сущность и смысл этой добродетели «заключается в готовности христианина подчинить свою волю и желание воле Божией, направляющей жизнь человека всегда к лучшему, но часто не так, как бы хотелось человеку с точки зрения его личных самолюбивых видов, предположений и намерений» (Зармн С. Аскетизм. С. 559). О «повиновении» см., например, у преп. Марка: «Кто добровольно, с повиновением и молитвою подвизается, тот есть искусный подвижник, ясно показывающий удалением от чувственного мысленную борьбу» (Преподобного и богоносного отца нашего Марка Подвижника Нравственно–подвижнические слова. Сергиев Посад, 1911. С. 45). Добродетель повиновения всегда высоко оценивается в церковной аскетической и житийной письменности. См., например, в «Житии преп. Симеона Нового Богослова», где повествуется о некоем монахе, который явил доказательство своего повиновения (τής υποταγής αυτοΰ άριστων δοχ<μήν), пройдя через все самые «непочитаемые» служения, и тем самым сделал явным для всех высоту своей духовной жизни (см.: Un grand mystique byzantin. Vie de Symeon le Nouveau Theologien. P. 58).