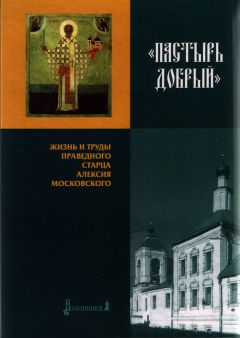И еще найдутся такие. Но надо думать и верить, что молитвами батюшки пройдут у них искушения их, откроются им духовные очи и снова поймут они его заветы и, очистившись покаянием, пойдут по трудному пути великого нашего старца о. Алексея.
Публикуется по машинописи из архива Е. В. Апушкиной. Впервые опубликовано в кн.: Отец Алексей Мечев. С.78—277.[284]
Часть 2 Все, что до сих пор было написано, касалось больше других. Теперь постараюсь написать, как возился с моей грешной душой дорогой мой старец, как он спасал душу моего мужа и как поставил меня, глупую, на путь истинный, подчинив меня духовному отцу и поучив, как должно относиться к нему и чем должен быть для меня мой духовный отец.
В общем я была под руководством старца о. Алексея около двух лет.
Первый раз я пришла к осени.
В первую зиму по большим праздникам редко ходила на Маросейку: боялась батюшки при народе — а вдруг что–нибудь скажет. В последний же год иначе не ходила, как только в эту церковь, а к батюшке через день, а то и два раза на дню.
С самого начала ходила к батюшке по чужим делам, водила к нему чужих. Постепенно же старец мой научил меня говорить ему и о себе. И я быстро поняла, что нужно говорить ему и что о. Константину.
Когда уж несколько раз поговорила с батюшкой и о себе, то решила, что нужно все–таки спросить о. Константина. Я боялась, что он не позволит утруждать собою батюшку.
— Ходите, ходите, о. Алексей, кроме хорошего, вас ничему не научит. Он вас наставит на путь Христов, — сказал он.
С тех пор я с легким сердцем и всей душой стала злоупотреблять терпением и временем дорогого батюшки.
Раз на молебне с водосвятием стояла я на коленях перед Феодоровской. Батюшка читал акафист. Между мной и им было несколько человек. И до сих пор не понимаю, как мог он за мной следить. Я горячо молилась в первый раз без всякой просьбы. Душа просто пела песнь любви к Божьей Матери. Я забыла где я, забыла про батюшку. Вдруг образ и лампады заблестели ярко, ярче звезд в морозную ночь. Я закрыла глаза. Открыла — все то же. Мне стало очень весело и я стала стараться всячески усилить это. Вообще тогда вся моя молитва была больше физическая: напрягала ум, волю, все тело, чтобы создать то, что от меня требовали. Иногда после служб уставала так, что все тело ломило, как, бывало, в деревне после очень тяжелого рабочего дня. Можно было на мне рубашку выжать. И от этой–то работы являлось иногда после долгих усилий немножко молитвы. Но на этот раз никакие усилия не помогли: явление исчезло так же внезапно, как и пришло. Вдруг я вспомнила батюшку и посмотрела на него. Насколько мне было видно, он читал акафист и никакого внимания не обращал на меня. Кто–то же из сестер, стоявших вблизи, вижу, с удивлением смотрит на меня. Вот чудо! Значит, молитва моя заметна и другим, а батюшка не видел. На душе было весело и покойно. Мне очень захотелось еще блеска и я стала стараться его вызвать. Но как я ни становилась и как глазами ни смотрела на икону, ничего не получалось и мне стало скучно. Вспомнила, что нужно молиться церковной молитвой. Я стала внимательно слушать.
Все кончилось, стали подходить к кресту. Батюшка, как всегда, сосредоточенно смотрел на каждого, как бы видя его насквозь, и отвечал на вопросы или сам говорил что–нибудь для душевной пользы. Подвели к нему очень милого деревенского мальчика. Батюшка ласково положил ему на голову руку и помолился о нем. Потом что–то спросил его, обещая книжку дать. Думаю: счастливый мальчик, батюшка так обласкал его, наверно он хороший.
Я подходила спокойно и весело. Проступков за мной никаких не было. Батюшка быстро отдернул крест, я за ним потянулась. Он слегка отступил и еще выше его поднял. Я с удивлением посмотрела на батюшку и застыла на месте.
Батюшка был какой–то величественный, голову он слегка откинул назад, лицо было суровое, глаза темные и взгляд такой острый, что пронзал насквозь. Я, не сморгнув, смотрела ему в глаза. Я не виновата, но, если накажешь, стерплю, значит так нужно. Долго смотрел батюшка мою душу, точно он в самых потаенных уголках ее искал чего–то недолжного. Мне становилось неловко, так как я задерживала народ. Наконец, батюшка облегченно вздохнул и все так же сурово, как бы высказывая кому–то свою мысль, проговорил:
— Нет, пока ничего такого нет. — Потом громко сказал: — Пока ничего, иди. Беги скорей, скорей домой.
Дал крест и благословил. Я в смущении полетела домой, ничего не поняв. И батюшкины слова «скорей домой» тоже поразили меня. У меня дома все было сделано. Я была свободна до обеда. При случае рассказала все о. Константину о том, что было на молебне и совсем надолго забыла.
Долго спустя, когда я уж много начиталась, я поняла, что явление это могло быть с правой и с левой стороны. По моей горячности и неопытности я могла впасть в прелесть и этого–то батюшка так испугался. Этого–то он и искал тогда во мне, но увидав в душе моей тишину и спокойствие, сам успокоился за меня.
Помню, как–то было очень много народу у батюшки в церкви. Стояли в очереди две особы из «обобранных», как я их называла. Несчастные такие. Одна совсем пожилая, еле двигалась. Батюшка их знал. Скоро причащаться идти, а им еще далеко до него. С бедной старушкой сделалась истерика, она, бедная, плакала горько. Народ сжалился, пропустил их. Батюшке сказали. Он их исповедал. Уж и довольны же они были. А к кресту когда стали все подходить, они стояли на амвоне. Батюшка их подозвал и не знал, как утешить, все «цыпочками» своими их называл. А я подумала: родной ты наш, зачем возишься с «обобранными»? — задаром пропадет. А когда я подошла к кресту, батюшка посмотрел на меня с укором, но улыбаясь:
— Ах, вы Ярмолович, этакая!
Пришла я как–то в церковь встревоженная, в отчаяньи, что у меня ничего не выходит с мужем. Батюшка учит христианской жизни, а я — то сержусь на него, то дома мало сижу с ним, виню его во всем. Жаловалась батюшке, что не вижу никакого христианства в нем. Батюшка тихонько выговаривал мне мое нетерпение, ропот, опять все объяснял как жить, обнадеживал, утешал.
Я осталась на обедню. Батюшка служил один, без диакона. Было так хорошо. И как это он успевал во всем. И служба, и поминания без конца, и исповедывать надо, а тут еще за советами свои и чужие ждут. И удивительно, батюшку тормошили, приставали к нему, он бросался от одного дела к другому, но молитва ни на минуту не переставала твориться в нем. Внешне он был то тут, то там: говорил, отвечал, делал, что нужно — внутренне же был всецело с Богом.
Батюшка так ласково, ободряюще произнес возглас: «И услыши нас…», как будто он хотел уверить меня, что Господь непременно услышит нас с ним. Мне стало вдруг весело, я почувствовала себя не сиротой в духовной жизни. Я стала за батюшкой, ограждаемая им, и помолилась безбоязненно Богу вместе с ним. И как часто это бывало, что чувствуешь себя за спиной у батюшки, и из–за него молишься Богу. Как ты ни грешна, как плохо себя ни вела, а Бог тебя не достанет, так как между Богом и тобой стоит о. Алексей. А он–то уж сумеет упросить Бога простить тебя. Он своей любовью покрывал перед Господом грехи наши.
Каждый раз, как видела батюшку, он спрашивал всегда про мужа, и про нашу жизнь с ним. Он знал все до мельчайших подробностей. Всякую малейшую перемену в его настроении я должна была ему докладывать. На основании того, что Ваня говорил, батюшка знал, что он чувствует.
Муж был удивительный человек: честный, безкорыстный, всегда готовый помочь людям. Больные в нем души не чаяли. Он был любящий муж, нежный семьянин. Когда мы, бывало, болели, он как сиделка ходил за нами.
После смерти сына он страдал ужасно. Молчал и страдал. Мы были разные по всему, но друг друга горячо и сильно любили. Я была гордая, избалованная, своевольная. Я не понимала, что значит подчиняться.
Муж и сын были для меня все на свете. Сыну я отдала всю себя. После его смерти я все перенесла на мужа. Горе наше мы переживали в одиночку, как каждый умел. Мне помогала духовная жизнь, мои руководители, у него этого не было. И я с ним была очень скрытная. При искании новой жизни я забросила мужа, мало сидела с ним. Он скучал и все требовал, чтобы я сидела дома. Нетерпение мое было страшное. Я, казалось, так стараюсь, а он все далек от Христа и Церкви. Часто раздражалась на него. Спорила. Причины были разные, подкладка всему — одна и та же: его неверие и непонимание духовной жизни.