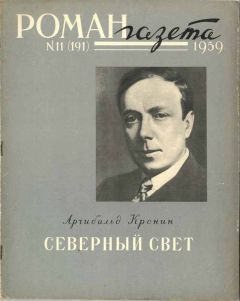Конечно, я слишком порывист и горяч, и мое смешанное воспитание породило во мне некоторый еретический выверт. Я не могу претендовать на то, чтобы быть причисленным к тем «благословенным» юношам, — а ими кишит наша библиотека, — которые с раннего детства уже лепетали молитвы, а позднее устраивали часовни в лесу и делали выговоры маленьким девочкам, толкавшим их на деревенской ярмарке: «Уйди, Тереза, (или Аннабель), я не для тебя».
Но как описать те мгновения, которые иногда наступают совершенно внезапно: когда идешь один по дороге к Доуну, или когда вдруг проснешься в темноте своей безмолвной комнаты, или когда останешься абсолютно один в пустой церкви, где еще веет дыхание жизни и которую только что покинула шаркающая, кашляющая, перешептывающаяся толпа; моменты странных предчувствий, непостижимого прозрения… Это не тот сентиментальный экстаз, который так же отвратителен мне сейчас, как был отвратителен всегда (спрашивается, почему мне всегда становится тошно, когда я вижу восторг на лице руководителя новициев[13]), — нет, это чувство утешения, надежды.
Зачем я пишу все это, хотя оно и не предназначено для посторонних глаз? Такие интимные переживания на бумаге выглядят унылым вздором. Но я должен сказать о том ощущении своей неотвратимой принадлежности Богу, которое пронзает меня сквозь тьму, о глубоком убеждении, что в этой размеренно, согласованно, неумолимо движущейся вселенной человек не возникает из ничего и не исчезает в ничто. И в этом — не странно ли это? — я чувствую влияние Дэниела Гленни, милого чудаковатого «святого Дэна», чувствую на себе его теплый неземной взгляд…
Ах, к чёрту все! И Тэррента туда же! Я и в самом деле изливаю свою душу. Если я такой уж «святой», почему же я ничего не делаю для Бога? Почему я не борюсь с равнодушием, охватившим такое множество людей? Почему я не борюсь с материализмом, который с глумливой усмешкой завладевает современным миром… короче говоря, почему же я не становлюсь священником?.. Ну, что ж… я должен быть честным. Я думаю, что это из-за Норы. Красота и нежность моего чувства к ней переполняют мне сердце. Ее светлое милое личико стоит у меня перед глазами, даже когда я в церкви молюсь Пресвятой Деве. Милая, милая Нора. Ты истинная причина того, что я не беру билета на небесный экспресс в Сан-Моралес».
Он перестал писать, и взгляд его устремился куда-то вдаль. Лицо его приняло отрешенно-мечтательное выражение, лоб слегка нахмурился, но губы улыбались. С усилием Фрэнсис снова сосредоточился.
«А теперь я должен вернуться назад и рассказать о том утре и Свирепом Маке. Так как это был обязательный праздник, то в моем распоряжении было все утро. По пути к сторожке, куда я шел опустить письмо, я наткнулся на директора, возвращавшегося со Стинчера с удочкой и без рыбы. Он остановился, опираясь коротким плотным телом на багор. Его красное лицо под пламенем рыжих волос было смущенным и нахмуренным. Я люблю Свирепого Мака. Думаю, что он тоже привязан ко мне. Это объясняется очень просто — оба мы шотландцы до мозга костей и оба рыболовы… только мы двое во всей школе. Когда леди Фрейзер передала колледжу часть находящегося в ее владении Стинчера, Свирепый Мак заявил, что река принадлежит ему — он был страстный рыболов. По этому поводу «Холиуэлл Монитор» поместила стишок, начинающийся словами:
Не позволю дуракам
Подходить к моим прудам.
Вот какую историю рассказывают о нем: однажды он служил мессу в замке Фрейзеров. Вдруг в самой середине службы в окно часовни просунулась голова его верного друга, пресвитерианца Джилли; казалось, он сейчас лопнет от сдерживаемого волнения.
— Ваше преподобие! Она, как безумная, идет в Локаберпул!
Никогда еще месса не была отслужена так быстро. Над ошеломленными прихожанами, среди которых была сама леди Фрейзер, были скороговоркой произнесены молитвы, с головокружительной быстротой им было дано благословение, а затем из сакристии[14], как молния, вылетело нечто черное, похожее на дьявола, каким его представляют в этих местах.
— Джок, Джок! В какую сторону она идет?
Сейчас он смотрел на меня с негодующим видом.
— Ни одной рыбы! И как раз, когда мне так нужно было бы поймать хоть одну для наших знатных гостей!
(Епископ нашей епархии и уходящий в отставку ректор английской семинарии в Сан-Моралесе ожидались в этот день к завтраку).
Я сказал:
— В Глиб-пуле есть одна рыба, сэр.
— Во всей реке нет ни одной рыбы, нет даже ни одного молодого лосося… Я был на реке с шести часов.
— Это большая рыба.
— Воображаемая!
— Я видел ее там вчера под запрудой, но, конечно, я не посмел попробовать поймать ее.
Он посмотрел на меня из-под своих рыжих бровей и сурово улыбнулся.
— Ты порочный демон-искуситель, Чисхолм. Если тебе охота зря тратить время, что ж, пожалуйста, я не возражаю, — он протянул мне свою удочку и ушел.
Я пошел к Глиб-пулу. Сердце прыгало у меня в груди, как всегда при шуме бегущей воды. Я уселся удить в заводи и удил около часа. Семга очень редко попадается в это время года. Один раз мне показалось, что темный плавник мелькнул в тени противоположного берега, но рыба не клевала. Вдруг я услышал осторожное покашливание. Я быстро обернулся. Свирепый Мак в своих лучших черных одеждах, в перчатках и парадном цилиндре остановился по пути на станцию Доун, куда он шел встречать гостей, чтобы выразить мне свое соболезнование.
— Да, Чисхолм, эти большие рыбы всегда достаются труднее всего, — сказал он с замогильной усмешкой.
Пока он говорил, я в последний раз закинул удочку ярдов на тридцать через заводь. Она попала как раз в пену, крутящуюся в небольшом водовороте в дальнем конце запруды. В следующее мгновение я почувствовал, что рыба взяла, подсек и крепко вцепился в удочку.
— У тебя клюет! — закричал Свирепый Мак.
Потом из воды фута на четыре в воздух выскочила семга. Хоть я и сам чуть не свалился, но на Мака это произвело просто ошеломляющий эффект. Я почувствовал, что он застыл рядом со мной.
— Бога ради! — невнятно бормотал он, охваченный благоговейным страхом.
Такой большой семги я еще никогда не видел, ни здесь в Стинчере, ни в сетях моего отца в Твидсайде.
— Держи ей голову кверху! — вдруг заорал Свирепый Мак. — Парень, парень, стукни ее по голове!
Я старался изо всех сил. Но сейчас рыба управляла мной. Безумным неистовым броском она устремилась вниз по течению. Я побежал за ней. Свирепый Мак побежал за мной. Стинчер в Холиуэлле совсем не похож на Твид. Он несется коричневым стремительным потоком по узким ущельям, поросшим соснами, прыгая по скользким валунам и высоким глинистым уступам. Через десять минут мы с Маком пробежали уже с полмили вниз по реке и здорово умучились. Но рыбу я пока не упустил.
— Держи ее! Держи ее! — Мак охрип от крика. — Дурак! Ну что за дурак! Не пускай ее в заводь, не пускай!
Но рыбина, конечно, уже ушла туда и нырнула в глубокую яму, запутав грузило в массе затонувших корней.
— Отпусти ее! Отпусти ее немножечко! — Мак даже припрыгивал от страха и волнения. — Отпусти ее чуть-чуть, а я стукну ее камнем.
Осторожно, чуть дыша, он начал бросать камни, стараясь выгнать рыбу из ее убежища не повредив удочки. Это продолжалось мучительно долго. Потом «уирр»… — рыба помчалась дальше, а за ней мы с Маком. Через час или около того в широких отмелях с медленным течением напротив деревни Доу семга, наконец, проявила первые признаки поражения. Совершенно измученный, пыхтящий, терзаемый множеством страшных опасений, Свирепый Мак отдал последнюю команду:
— Ну, ну! Сюда ее, на этот песок! — затем прокаркал: — У нас нет багра. Если она потянет тебя дальше, она уйдет совсем.
Во рту у меня пересохло, я задыхался. Весь дрожа, я начал подводить рыбу. Она шла спокойно, потом вдруг сделала последнюю отчаянную попытку удрать. Мак испустил глухой стон.
— Легче… легче! Если ты ее сейчас упустишь, я никогда не прощу тебе!
В мелководье рыба казалась невероятной. Я мог видеть перетершуюся нить, к которой крепился крючок. Если я ее упущу! — у меня мороз по коже прошел, будто мне под рубашку сунули комок льда. Я тихонько повел ее к небольшой песчаной отмели. В напряженном молчании Мак наклонился над ней, схватил под жабры и, высоко подняв, грохнул чудовище на траву.