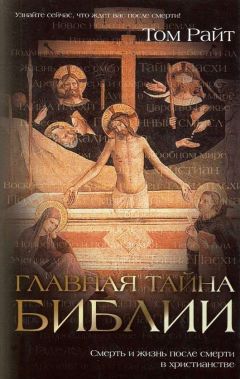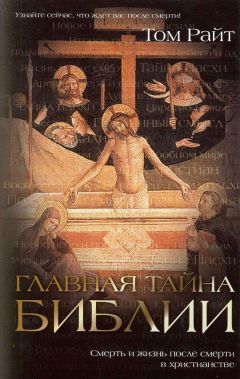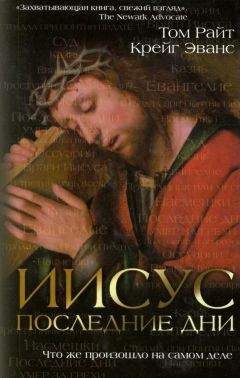Этот вызов, по сути, есть вызов нового творения. Самое главное здесь сводится к следующему: воскресение Иисуса представляет собой — и для историка или ученого в не меньшей степени, чем для христианина или богослова, — не какое–то чрезвычайно странное событие в нашем мире, каков он есть, но крайне характерное, прототипическое и основополагающее событие в новом мире, каким тот начинает становиться.[87]Христианство утверждает нечто удивительное и великое: Иисус из Назарета дал нам не просто новые духовные возможности, не просто новую этику или новый путь к спасению, но новое творение.
И тогда это выглядит как некий упреждающий удар как по эпистемологии, так и по богословию. Если в нашем мире уже началось новое творение, у историка просто не может быть никаких аналогий с этим событием, а ученый не сможет поставить его в один ряд с другими, доступными наблюдению. Что нам с этим делать?
Сама по себе история зародилась в современном западном мире, где ее уложили в прокрустово ложе точных наук, которые (справедливо) изучают тот мир, что нам доступен, А следовательно, тут она покидает нас, так что мы подобны детям Израиля, которые в страхе стоят на берегу Чермного моря. Позади нас все силы скептицизма — полчища фараона, которые издеваются над нами и обещают с нами расправиться. Перед нами море — хаос и смерть, — и кажется, что эти силы еще никому не удалось победить. Что нам делать? Обратной дороги нет. За две тысячи лет насмешек скептиков над христианством не было найдено ни одного удовлетворительного объяснения тому, как могила оказалась пустой, как ученики могли, встретить Иисуса и как это преобразило их жизнь и мысли. Альтернативные объяснения на удивление слабы; я изучил большинство современных гипотез, и многие из них просто вызывают смех. История покинула нас, и мы дрожим от страха на берегу. Она может остро поставить вопрос, ответ на который — вера христиан. Но если кто–то желает остаться на берегу, между фараоном и глубоким морем, история не заставит его двигаться вперед.[88]
И здесь все зависит от контекста, в котором совершается история. Самые важные решения в жизни мы принимаем не только левым полушарием мозга — с помощью одного лишь рационализма, зародившегося после эпохи Просвещения. Я не хочу сказать, что можно убедить кого–либо в истине важнейших положений христианской веры, опираясь исключительно на человеческий разум, который основывается на наблюдении за миром. Это невозможно. Но одновременно я не хочу сказать, что подобное историческое исследование не играет здесь никакой роли и что требуется лишь прыжок в слепую веру. Бог дал нам ум, чтобы думать; вопрос был поставлен должным образом; христианство взывает о суде к истории — значит, оно туда и должно отправиться. И вопрос о воскресении Иисуса, хотя само это событие ломает рамки истории, все–таки входит в эти рамки; именно потому он столь важен, столь мучителен как вопрос жизни и смерти. Мы можем смириться — и мир может смириться — с мыслью об Иисусе, который в конечном счете остался прекрасным идеалом в умах и сердцах учеников. Но мир не может принять весть об Иисусе, который покинул гробницу и начал дело нового Божьего творения в недрах старого.
Вот почему, чтобы полноценно рассмотреть этот вопрос, нам необходимо поместить историческую науку в более широкий контекст — личный и коллективный. И, разумеется, это бросает вызов не только историкам или ученым, но и всем людям, независимо от их мировоззрения. На кон поставлены именно представления о мире, и от них нельзя отмахнуться с помощью старой доброй стратегии либерализма, заявив (как это сделали некоторые критики написанной мной раньше книги), что вера в воскресение Иисуса невозможна для любого человека, который (как сказал один автор) принял «современные парадигмы реальности». Если это равносильно капитуляции перед мнением Юма и подобных мыслителей Просвещения, я отвечу, что именно сегодня, в начале XXI века, у нас есть все основания для того, чтобы поставить под сомнение эти «современные парадигмы». В любом случае косвенно предполагается, что мы должны избрать либо парадигмы древности, либо парадигмы эпохи модерна (или даже постмодерна). Однако в античных представлениях Гомера, Платона, Цицерона также вовсе нет места идее воскресения. На самом деле это столкновение между мировоззрением, которое принимает существование Бога творения и справедливости, и мировоззрением, которое это отрицает.
Я понимаю, что и сегодня многим людям кажется, будто место веры — в частной жизни, в изоляции от истории — особенно от такой, которая совершает атаки на веру. А многие другие думают, что история — просто цепочка из наблюдаемых причинно–следственных связей, и она не может разорваться, чтобы включить в себя то, чего еще никогда не происходило. Повествования о воскресении Иисуса, а также, как я старался доказать, само существование церкви с ее первых до сегодняшних дней — ставят перед миром огромный вопрос. Мы неизбежно задаем его, когда говорим с общиной, которая верит в Евангелие и стремится жить по его истине. Мы задаем этот вопрос, читая Библию, которая, если видеть в ней цельное повествование, дает нам картину мировоззрения, в котором данный вопрос обретает смысл. Нам приходится думать об этом в контексте личной открытости тому Богу, о Котором говорит Писание; Он сотворил мир, а не просто присутствует в нем, и это Бог справедливости и истины. Такие размышления не заменяют нам исторического исследования, но и не являются каким–то лишними. Это позволяет нам открыть окна ума и сердца, чтобы подумать: в конце концов, такое возможно в Божьем мире, не только в мире нынешнего творения, но и в мире творения нового. Как я полагаю, история подводит нас к рубежу, где мы просто обязаны сказать: могила оказалась пустой, они действительно видели Иисуса — такого же, но и преображенного. И здесь задает вопрос история: и как это можно объяснить?
История не позволяет нам избежать такого вопроса, она не оставляет путей бегства от него. Все эти пути уже давно были испытаны, и ни один из них не оказался надежным. История задает нам вопрос. И когда на него дает ответ христианская вера, трезвая, смиренная и вопрошающая, историческая наука (в отличие от воинствующего рационализма, который уже заготовил свой ответ заранее) может неожиданно заявить: «Звучит правдоподобно».
Рассказ о Фоме в главе 20 Евангелия от Иоанна похож на притчу, которая все это иллюстрирует. Подобно добросовестному историку, Фома желает все осмотреть и потрогать. Иисус предстает перед ним и предлагает к себе прикоснуться. Но Фома этого не делает. Он уже оставил позади тот тип познания, который намеревался использовать, и перешел к более высокому и богатому познанию. Если воспользоваться все теми же образами Израиля у Чермного моря, вот как это выглядит в «Пасхальной оратории».[89] В начале Фома полон сомнения:
Море слишком глубоко,
Небо высоко,
Плавать я не умею
И летать не могу;
Мне нужно остаться здесь,
Остаться здесь,
Тут, где я знаю,
Как я могу познать,
Тут, где я знаю,
Что я могу познать.
Вдруг является Иисус и предлагает Фоме посмотреть на Него и прикоснуться к Нему. Перед Фомой внезапно предстает новая головокружительная возможность:
Море расступилось. Хозяева фараона:
Отчаяние, сомнение, страх и гордость —
Уже не страшат нас.
Мы должны
Перейти на другую сторону.
Небеса склоняются. С пронзенными руками
Наш Бог в изгнании, наш Господь в стыде
Пред нами, живой, дышащий, стоит;
Рядом с нами Слово, что зовет нас по имени.
Новое знание в сомневающемся уме,
Новое зрение в слепоте;
Новое доверие в сердце скептика,
Новая надежда, через которую познает вера.
В этот момент Фома делает глубокий вдох — и мгновенно история и вера сливаются воедино. «Господь мой и Бог мой», — восклицает он.
Эти слова не являются истиной за рамками истории. «Господь», о котором идет речь, — именно Тот, в ком достигла наивысшей точки история Израиля и кто начал иную историю. Как только постигаешь смысл воскресения, сразу начинаешь видеть, что история Израиля наполнена частичными и предварительными аналогиями этого момента. И эпистемологическую весомость она приобретает не только в силу обещанного окончательного воскресения, но и благодаря повествованию о великих деяниях Божьих в прошлом.
И нельзя сказать, что слова Фомы противоречат естественным наукам. Мир нового творения — все равно мир творения; как таковое, оно открыто для труда человека (и даже радуется ему); человек не должен подчинять себе творение с помощью магических ухищрений и подчиняться ему, как если бы само творение было Божественным, но он должен служить его распорядителем. А любой распорядитель должен понимать, чем он управляет, чтобы лучше служить творению и помочь ему стать таким прекрасным, каким оно было задумано.