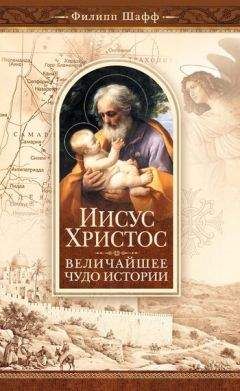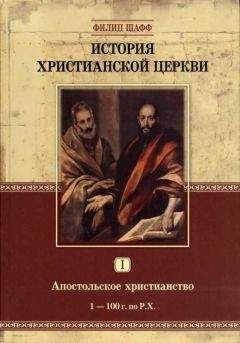Ознакомительная версия.
Почему же христианство, произведшее величайший из всех нравственных переворотов в человеческом роде, должно составлять исключение? Идеи без живых людей, которые служат представителями и проводниками их, суть тени и отвлеченности. Пантеистическая философия, на которой основывается критика Штрауса и Ренана, с отрицанием личного Бога разрушает также собственное значение личности человека и, оставаясь последовательной, оканчивает отрицанием бессмертия души.
Но в настоящем случае трудность мифологической гипотезы значительно увеличивается тем, что евангельскую, допустим, поэму, по чистоте и превосходству стоящую бесконечно высоко над всеми древними мифологиями, создает не такой могучий гений, как Гомер, но необразованная и относительно невежественная толпа.
Штраус предполагает мессианское общество в какой-то terra incognita, вероятно, в самом центре Палестины, – общество, которое, независимо от апостолов, спустя тридцать или сорок лет после смерти Иисуса выдумало евангельскую историю. Но это чистый вздор, бредни ученого мужа. В указанное время христианство уже распространилось по всей римской империи, что ясно видно как из Посланий апостола Павла, так и из Деяний апостольских, и все христианские общества находились под руководством или самих апостолов, или апостольских мужей, которые были очевидцами фактов жизни Иисуса и владели всем христианским преданием. Кроме того, Евангелия, за исключением Евангелия от Матфея, носят на себе не иудейско-христианский, а языческо-христианский характер и написаны вне Палестины, на греческой или римской почве, откуда открывается, что их идеи распространились во всей римской империи и должны были образовать часть первоначального христианства. Гипотеза мифа обрывается на половине своей дороги и находит себя вынужденной апостолов сделать ответственными за историю, т. е. прямо их обвинить в обмане. Если Христос действительно не совершил ни одного чуда, то, значит, чудеса изобрели Его первые ученики, апостолы и евангелисты; иначе никак и не объяснить их быстрого и всеобщего распространения и принятия их христианами из иудеев и язычников на пространстве римской империи.
Но если мы допустим даже, что действительно существовало такое сформированное, центральное, и притом самобытное мифически-поэтическое общество во втором христианском поколении, то остаются еще неразрешенными вопросы: как могло само по себе образоваться это мессианское общество без Мессии? Как могли уверовать в Иисуса Его ученики, не находя в Нем необходимых признаков мессианства? Если первое христианское общество произвело Христа, то кто же после этого произвел первых христиан? Откуда явился у них такой высокий идеал? Мессианские надежды тогдашних иудеев не были ли частными (национальными), политическими и плотскими надеждами, стоявшими в прямой противоположности тому, что проповедовал Христос? Слышал ли кто-нибудь о такой выдумке, которая бессознательно была сочинена разнообразной, смешанной толпой, – о такой выдумке, которая всеми признавалась за действительную, фактическую историю? Каким образом те пятьсот лиц, которым, как рассказывается, явился воскресший Спаситель (см.: 1 Кор. 15, 6), в одно и то же время могли видеть один и тот же сон? Как они могли поверить этому сну как достоверной истине, с готовностью подвергнуть свою жизнь опасности? Как могла такая иллюзия устоять в борьбе с соединенной враждой иудейского и языческого мира, с анализирующей критикой времени, в борьбе не с какой-нибудь детски-простой, но с высшей цивилизацией и критическим исследованием, – а именно, в борьбе с неверием и скептицизмом? Как странно, что неученые и неважные рыбаки, или еще гораздо более – невежественные друзья и ученики Спасителя, а не философы и поэты классической Греции и Рима, создали такую великую поэму и изобразили такой характер, которому сам Штраус отводит первое место в ряду всех религиозных гениев и основателей религиозных обществ! Не гораздо ли лучше было бы для них нарисовать для будущих поколений приукрашенный образ какого-нибудь раввина, как, например, Гиллела или Гамалиила, или кого-нибудь из пророков, например, Илию или Иоанна Крестителя, вместо того чтобы создавать образ всеобщего реформатора, превосходящего все национальные и сектантские пределы?
В этом последнем случае поэты должны стоять выше изображаемого ими героя. Иоанн Богослов должен поэтому превосходить Иисуса, Которого он представляет вочеловечившимся Богом. И вопреки всему этому наши скептики утверждают, однако, что этот герой есть самый чистый и величайший из людей, которые когда-нибудь жили! 84).
Далее, где в Евангельской истории можно указать следы пылкой фантазии и мифически-поэтического искусства? Напротив, не поразительно ли свободна она от всяких риторических и поэтических украшений, от всякой примеси субъективных взглядов и чувств, даже там, где выражаются симпатия, удивление и прославление? Священные писатели, очевидно, почувствовали, что их история говорит сама за себя и не может быть приукрашена человеческим искусством и ловкостью. Их разногласия, не касающиеся изображения Христа в сущности, а только частных, отдельных обстоятельств Его истории, доказывают отсутствие всякого тайного уговора, свидетельствуют о чистоте их намерения и подтверждают всеобщую достоверность их показаний. На каждой своей странице Евангелия носят печать несомненного происхождения от апостолов и заключают в себе непреодолимую прелесть для всякого непредубежденного читателя. Евангельская история совершенно непосредственно, лицом к лицу, говорит сама за себя, без примеси собственных рассуждений и субъективных воззрений писателей. Немногочисленные случайные ссылки на географию, археологию и всемирную историю служат только к подтверждению всеобщей достоверности евангельских повествований. Как резко отличаются от настоящих Евангелий со всех этих сторон евангелия апокрифические! Это поверхностные, ребяческие, безвкусные и бессвязные произведения больной религиозной фантазии. Вот здесь-то, конечно, мы находим основание говорить о мифической или легендарной фикции или прямо об обольщении и благочестивом обмане. Но эта-то именно противоположность и доказывает истину оригинальной истории, подобно тому как фальшивая монета свидетельствует о находящейся налицо настоящей монете 85).
Поистине Евангельская история, не скрывавшаяся в темных уголках (см.: Деян. 26, 26), но открыто проповеданная перед глазами народа, перед фарисеями и саддукеями, перед Иродом и Пилатом, перед иудеями и римлянами, перед друзьями и врагами, в Галилее, Иудее и Самарии, история, рассказанная непосредственными свидетелями и их учениками с такой искренней честностью и простотой, среди белого дня проповеданная от Иерусалима до Рима, принятая верой тысячами иудеев и язычников всех времен, история, запечатленная кровью апостолов, евангелистов и святых из всех слоев общества и различных степеней образования, – эта история скреплена внешними и внутренними доказательствами гораздо больше, чем какая-нибудь другая история в мире.
Существование христианской церкви с ее непрерывной историей в течение восемнадцати столетий есть неопровержимое свидетельство в пользу Евангельского Христа. Святое Крещение и Святая Евхаристия ежедневно свидетельствуют по всему миру о двух основных христианских учениях: о Святой Троице и искуплении наших грехов Крестной жертвой. Штраусу хочется заставить нас верить в исток без источника, в дом без фундамента, действие без причины; потому что факты, которые он и Ренан считают неоспоримыми, неудовлетворительны для того, чтобы хоть сколько-нибудь объяснять происхождение и прочность существования христианской Церкви.
Та же самая отрицательная критика, которую Штраус применил к Евангелиям, с одинаковой вероятностью уничтожила бы и самые сильные перед судом Истории свидетельства, и жизнь Сократа, Карла Великого или Лютера низвела бы на степень мифических грез 86).
Но скрытая причина этой строгой критики заключается в пантеистическом или атеистическом отрицании личного, живого Бога, которое обыкновенно всегда оканчивается отрицанием личного бессмертия, потому что относительная личность человека зависит от самосознающей, самобытной, абсолютной личности Бога. В своих подробностях мифологическая гипотеза так запутана и искусственна, что не может быть проведена последовательно. Она постоянно переступает пограничную линию, которая отделяет миф от лжи, и в критических местах, как, например, в происхождении четвертого Евангелия или в чуде воскресения, всегда приходит к такой дилемме: или признать истину, или прийти к низкой и постыдной гипотезе намеренного обмана, – к гипотезе, от которой теория Штрауса, по собственному его утверждению, отвращается с ужасом и презрением.
Эта дилемма еще яснее представится нам, когда мы рассмотрим новейшие фазисы в Истории неверия, – рассмотрим сочинение французского Штрауса.
Ознакомительная версия.