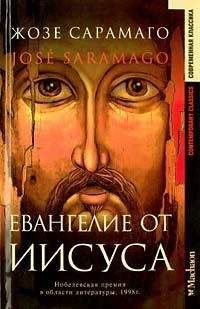Помнишь, ты как-то попросил меня присмотреть за твоим домом, пока ты будешь в отлучке, просьбу твою я выполнил. Век не забуду твоей доброты, отвечал Иосиф, Анания же продолжал: А теперь настал час попросить тебя об ответной услуге – присмотреть в мое отсутствие за моим домом. Вы с женой уходите? Нет, ухожу я один. Шуя, стало быть, остается? Нет, она отправится к родным, они у нее рыбаки. Не хочешь ли ты сказать, что собираешься дать жене развод? Раз уж не оставил я ее, узнав о неплодности ее, то сейчас и подавно не собираюсь, но все дело в том, что мне придется в течение известного срока находиться вдалеке от дома, а для Шуи будет лучше, если она это время побудет со своими. И долго ты намереваешься отсутствовать? Не знаю, это зависит от того, сколько продлится война. А при чем тут война? – спросил Иосиф, крайне удивленный.
Я отправляюсь искать Иуду Гавлонита. Зачем он тебе?
Спрошу, не возьмет ли меня к себе в отряд. Анания, ты же всегда был человеком миролюбивым, неужто вздумалось тебе сейчас ввязаться в эти распри с римлянами, вспомни о том, что случилось с Ефраимом и Абизером.
Можешь прибавить также – еще и с Нефтали и Елеазаром. Одумайся, Анания. Нет, Иосиф, это ты вдумайся получше в мои слова, и не важно, кто говорит сейчас моими устами, ибо я уже сравнялся годами с отцом моим, а он-то успел в жизни сделать гораздо больше, чем его сын: я и детей после себя не оставлю, да и мудрости мне в отличие от тебя недостанет, чтобы сделаться, скажем, старейшиной синагоги, а потому мне теперь только и остается, что дни и ночи ждать смерти, да притом рядом с женщиной, которую я давно уже не люблю. Так расстанься с ней. Не с ней бы расстаться – с самим собой, а это, как ты понимаешь, невозможно. А как ты будешь воевать, ведь сил у тебя почти не осталось? Так, словно решил я родить сына. В жизни не слыхивал ничего подобного. Я тоже, эта мысль только что пришла мне в голову. Я буду присматривать за твоим домом, пока ты не вернешься. А не вернусь и услышишь, что меня убили, обещай, что сообщишь об этом Шуе: пусть получит все, что ей причитается по наследству. Обещаю. Теперь я спокоен, пойдем назад. Спокоен, хотя на войну собрался, – по правде говоря, не могу тебя понять. Ах, Иосиф, Иосиф, сколько же еще столетий копить нам знания, присовокупляя их к мудрости Талмуда, прежде чем мы научимся понимать самое простое?
Зачем надо было тащиться сюда, в такую даль? Мне хотелось поговорить с тобой при свидетелях. Разве не довольно того, что свидетельствовали нам сам Господь, который все видит и слышит, и эти небеса, которые всегда над нами, где бы мы ни находились. В присутствии этих камней. Камни глухи и немы, они не могут свидетельствовать. Так и есть, они глухи и немы, но, если мы завтра решимся нарушить свой обет, данный в их присутствии, они обвинят нас и будут обвинять, покуда сами не рассыплются в пыль, покуда мы не превратимся в прах. Ну ладно, пойдем назад. Пойдем. По дороге Анания несколько раз оглядывался назад, чтобы еще и еще раз взглянуть на камни, но, когда они наконец скрылись за холмом, Иосиф спросил: Шуя-то знает уже? Да, сказал. И что она? Сначала молчала, потом говорит: Лучше бы ты со мной развелся, а сейчас ревет в три ручья.
Бедная. Как только вернется к родным, забудет обо мне, а коли умру, все одно забудет, таков закон жизни – забвение. Они вошли в селение, и, когда подходили к дому плотника, стоявшему, если идти по дороге с этой стороны, ближе, чем соседский, Иисус, игравший на улице со своими братьями, Иаковом и Иудой, сказал отцу, что мать как раз пошла к соседке. Мужчины направились к дому Анании и неожиданно позади себя услышали, как Иуда, играя с братьями, крикнул властно и гордо: Я Иуда Галилейский, и сосед обернулся и, взглянув на мальчика, сказал с улыбкой его отцу: Вон он, военачальник мой, но Иосиф ничего не успел ответить, потому что голос его другого сына, Иисуса, произнес в ответ: Тогда твое место не здесь. Эти слова кольнули Иосифа в сердце так больно, точно были обращены прямо к нему, а в обычной детской игре будто мелькнуло отражение какой-то иной, высшей правды, и он почему-то вспомнил о трех камнях и, подчинившись неведомому внутреннему побуждению, попытался представить себе, как бы он мог жить, говорить и поступать перед их немым свидетельством, и в следующее мгновение сердце его захолонуло от ужаса, потому что он осознал, что все это время не вспоминал о Господе. В доме соседа Мария долго пыталась успокоить безутешную Шую, но та перестала рыдать и вытерла слезы, лишь когда в дверях показались двое мужчин, хотя это, конечно, не значило, что горе ее унялось, просто женщины здесь научились плакать, молча глотая слезы, наверное, потому и принято говорить: Они столько же плачут, сколько смеются, только это неверно, ибо смех звонок, плач же беззвучен.
Правда, в тот день, когда Анания покидал свой дом, жена его, не в силах скрыть охватившую ее душу скорбь, рыдала уже в голос. А неделю спустя за ней пожаловали родственники, которые жили на берегу моря. Мария проводила ее до окраины Назарета, где они и простились. Глаза Шуи были сухи, но теперь в них навеки поселилась неутешная боль, словно в душе зажглось и все никак не гасло пламя, которое сжигало ее слезы, прежде чем успевали они появиться и скатиться по щекам.
Так шел месяц за месяцем, с войны по-прежнему приходили вести, когда добрые, когда дурные, но если добрые вести не содержали ничего, кроме туманных намеков на победы, при ближайшем рассмотрении оказывавшиеся незначительными, то вести дурные, напротив, уже сообщали о тяжелых и кровавых поражениях мятежного войска Иуды Галилеянина. Однажды пришло известие о гибели Балдада, и случилось это, когда римляне захватили врасплох засаду мятежников, так что в яму попали те, кто ее и рыл, и было при этом много убитых, но из Назарета только один Балдад. А другой раз кто-то пришел и сказал, что слышал от кого-то кто слышал от кого-то еще, кто слышал, будто Варон, римский наместник Сирии, двинулся туда двумя легионами, чтобы разом покончить с длящимся уже три года и нетерпимым долее мятежом. Сам по себе способ получения новостей «а я вот слыхал» неопределенностью своей внушал людям смутный страх, и ждали они, что в любую минуту покажутся из-за поворота дороги воздетые в голове карательной ужас наводящей колонны орлы и штандарты с четырьмя буквами SPOR – первыми буквами слов «сенат и народ римский», и эти эмблемы, эти штандарты и стяги, что бы ни было на них изображено и в те времена, и в последующие, и во все, будто подписью скрепляют и печатью удостоверяют законность того, что люди идут убивать себе подобных, и та же почтенная роль отведена будет другому, не менее известному сокращению – INRI, что значит «Иисус Назорей Царь Иудейский», – однако не станем забегать вперед, обо всем поведаем в свое время и в должном месте, хоть и странное чувство вызывает у нас то, что мы знаем об этом и можем говорить об этом, словно вещаем из какого-то другого мира, ибо пока еще никто не отдал жизнь за эти четыре буквы – все еще впереди.
Повсюду возвещаются великие битвы, и те, чья вера крепка, утверждают, что не пройдет и года, как римляне будут изгнаны со святой земли Израиля, немало, однако, и тех, кто, слыша эти заверения, печально никнет головой в предчувствии надвигающейся беды и принимается прикидывать, к чему она приведет. И правы оказались они. В течение нескольких недель после того, как прошел слух о продвижении легионов Варона, ничего не происходило, чем и воспользовались повстанцы, умножив беспокоящие вылазки против рассеянного войска, с которым они вели борьбу, но уже в скором времени начали проясняться стратегические основания этого кажущегося бездействия: высланные вперед лазутчики Галилеянина доносили, что один из легионов, применяя маневр охвата, продвигается на юг по-над Иорданом, сворачивая затем направо на уровне Иерихона, чтобы, подобно сети, умелой рукой закинутой в воду и затем вытянутой, двинуться назад, на север, таща с собой все, что ни попадется, второй легион, действуя подобным же образом, направлялся на юг. На военном языке этот прием называется «взять в клещи», но больше напоминали эти маневры согласованное движение навстречу друг другу двух стен, сдавливавших тех, кто не мог убежать прочь из сужавшегося зазора, и при этом решающий удар, который расплющит в лепешку все живое, оставлявших на последнюю минуту. Путь легионов по дорогам, долинам и горам Галилеи и Иудеи был отмечен крестами, на которых римляне распинали соратников Иуды, руки им приколачивая к перекладинам, а ноги, точнее, берцовые кости, перебивая молотом, чтобы смерть не медлила. Легионеры входили в деревни, осматривали дом за домом в поисках подозрительных лиц, поскольку для того, чтобы предать распятию этих людей, не требовалось никаких иных доказательств, кроме тех, что предоставляет – было бы желание – одно лишь простое подозрение. Этим несчастным еще повезло – прошу прощения за горькую иронию: ведь их распинали, если можно так выразиться, прямо у порога дома, и потому родственники торопились снять их с крестов после того, как испустят они последний вздох, и жалостно было смотреть на это и слышать плач матерей, жен и невест, вопли бедных детишек, оставшихся без отца, когда в муках скончавшегося с тысячью предосторожностей снимали с креста, ибо, если грянется оземь бездыханное тело, больно от этого живым. Потом распятого клали в могилу, где он с той поры ожидал дня воскресения. Но тех, кто попадал в плен после боя, происходившего где-нибудь в горах или иных безлюдных местах, легионеры оставляли на крестах еще живыми, и там они, в пустыннейшей из пустынь, именуемой одинокой смертью, и пребывали, сжигаемые солнцем, терзаемые хищными птицами, превращаемые временем в жалкие останки распадающейся плоти, рассыпающихся костей – в некий выползень вида столь гадкого, что им побрезговала бы и собственная душа. Людям не в меру любопытным и дотошным, а то и скептикам, и ранее, и в иных обстоятельствах не желавшим смиренно принимать на веру сведения евангелий, подобных нашему, хотелось бы знать, как это сумели римляне распять на крестах столько иудеев, тем более что казни эти свершались в местности безлесной и пустынной, где от века произрастают деревца столь чахлые да жалкие, что на них и дух бесплотный не распнешь – не выдержат.