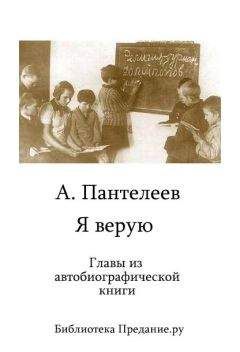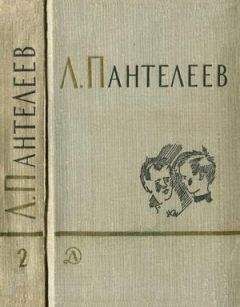Частым гостем в доме Шварцев (особенно в комаровские времена) был тезка американо-русского архипастыря — о. Иоанн Чакой, или попросту Иван Иванович[6], как чаще называл его Шварц. Отец Иоанн служил последние годы в кафедральном Никольском соборе. Познакомились с ним Шварцы через его дочь, артистку акимовского Театра Комедии Татьяну Ивановну Чакой. Сам я знал о. Иоанна еще в юности: несколько лет мы жили в одном доме. Много раз видел я его и на служении в храме, но встречаться у Шварцев нам почему-то не приходилось. Помню только некоторые рассказы о нем Евгения Львовича.
Вот гуляем зимним погожим днем по комаровским заснеженным улицам и Евгений Львович, посмеиваясь, рассказывает:
— Вчера опять были Иван Иванович с Таней. Заговорили о Толстом. Иван Иванович слова о нем спокойно сказать не может. И до чего же, ты знаешь, похоже то, что он говорит, на то, что говорят о Толстом марксисты!. Ну, буквально те же слова — как будто из Ленина или из Плеханова выписал: «художник великий, не спорю, а как мыслитель— полное ничтожество, ни малейшей критики не выдерживает!»
...А вот вспомнился почему-то другой рассказ Евгения Львовича — еще об одном Иоанне, об Иване Петровиче Павлове, академике.
Каким-то образом Шварц и Олейников были знакомы с известным хирургом, профессором Грековым[7], бывали у него дома. Были они и на похоронах Грекова, а перед этим на гражданской панихиде в Обуховской больнице.
— Никогда не забуду это явление, — говорил Евгений Львович. — Идет обычное надгробное славословие... Звучат слова знакомые, скучные, казенные... От месткома, от парткома. И вдруг откуда-то возникает и становится в изглавии гроба невысокий, с сократовским лбом и вообще чем-то похожий на Сократа — Павлов. Подошел, постоял, кашлянул и громким профессорским голосом начал: «Великий Учитель человечества Иисус Христос однажды сказал...»
— А ты знаешь этот анекдот о Павлове? — перебивает самого себя Шварц.
— Какой? С красноармейцем?
— Да. Знаешь?
Да, этот анекдот я много раз слышал. Академик Павлов выходит из Знаменской церкви, крестится. Мимо идет красноармеец. Усмехнулся, покачал головой:
— Эх, серость!..
...Евгений Львович, как известно, меньше всего был отшельником. Всю жизнь — и в молодости, в зрелые годы, и до последних дней — он был окружен друзьями и приятелями. Но многим ли из этих людей было известно, что Шварц человек религиозный? С уверенностью могу назвать пять-шесть имен. На большее этой уверенности не хватит. Откуда же она могла возникнуть, эта уверенность, в мире, где даже с друзьями, даже с близкими по крови мы не всегда решались на полную откровенность!..
Уже много лет спустя после смерти Евгения Львовича как-то в Комарове спросил у меня друг его юности — М. О. Янковский[8]:
— Женя ведь был верующий, правда?
...Над могилой Шварца на Богословском кладбище стоит высокий белый мраморный крест. Когда в моем присутствии у Екатерины Ивановны спрашивали: почему крест? — она излишне громко, а иногда даже излишне сердито отвечала:
— Потому что Женя был верующий!..
*
Когда я задумал писать эту книгу, я хотел прежде всего последовательно рассказать о всех тех духовно близких мне людях, которых мне суждено было повстречать — о тех, кто украсил, согрел, осветил, сделал веселее, осмысленнее, счастливее мою жизнь. Но потом подумал: а не вернее ли будет начать не с других, а с себя самого, чтобы понятнее стало, почему же эти встречи были для меня всегда такой большой радостью, праздником, озарением?
И вот я решил: отойду, — может быть и надолго, — в сторону, попробую рассказать о себе. И при этом начну не «с самого начала», а запишу то, что вспомнится в первую очередь.
Вспомнился почему-то летний вечер 1929 года, когда шел я с двумя приятелями по Невскому и на углу улицы Рубинштейна встретил Ивана Ивановича Соллертинского, блистательного театрального деятеля, музыковеда, и от него, вихрем налетевшего на меня («Пантелеев, здравствуйте, вам известно, слыхали?»), узнал, что несколько дней назад в Москве в городской больнице умер от детской болезни скарлатины Жоржик Ионин, мой товарищ по школе им. Достоевского (в повести «Республика Шкид» он выведен под кличкой «Японец»)... Конечно, мы были потрясены этой новостью. Ведь кроме всего для каждого из нас это была первая смерть сверстника, одногодка: Ионин (талантливейший человек, театральный режиссер, драматург, автор либретто к опере «Нос» Шостаковича) умер, не дожив до двадцати лет! Один из моих тогдашних спутников, милый друг мой Костя Лихтенштейн (тоже рано ушедший, тоже из Шкиды — в повести он «Кобчик», Костя Финкельштейн) расплакался. Был знаком с Иониным и третий из нас — Ися Рахтанов[9].
Будь я тогда один — как бы я поступил, что бы сделал? Зашел бы, надо думать, в первую действующую церковь, в Казанский или к Спасу на Сенной и поставил бы свечу «на канун» за упокой души раба Божия Георгия. А тут, с товарищами, мне и в голову такое не пришло, — и вот, по моему же, кажется, предложению и по глупому русскому стародавнему обычаю мы зашли помянуть Жоржика Японца — не в церковь, а — в бар под Европейской гостиницей.
Спутники мои были оба совершенно непьющие, оба евреи, один из них — Рахтонов — к тому же еще и вегетарианец. Запомнилось мне, что из салата оливье, который мы заказали на закуску, он выуживал только кусочки огурца, морковку, петрушку и еще какую-то декоративную зелень. Ничего другого память моя об этом вечере не сохранила. Трезвенником я не был, пил, но пить не умел, хмелел быстро и, охмелев, ничего уже после этого не помнил. Всё, что было дальше, знаю по рассказам моих трезвых собутыльников. Пробыли мы в ресторане совсем недолго и, когда выходили, я с кем-то повздорил. У выхода сидела за столиком какая-то пьяная шпанистая компания. Я шел сильно пошатываясь и, ничего не видя, налетел на одного из этих парней, сдвинул его стул. Он выругал меня. Я попросил его «вести себя, если можно, вежливей»... Парни быстро рассчитались с официантом и вышли на улицу. Там они — шесть или семь человек — накинулись на меня и стали бить. Били основательно, в этой драке я потерял два зуба. Конечно, я не стоял, закрыв руками лицо, а отбивался и отбивался яростно. Не увидев милиционера, который явился нас разнимать, — ударил и милиционера. Тот оказался человеком мелким, обидчивым, плохим стражем закона. Вместо того, чтобы отконвоировать меня и моих обидчиков в милицию, он счел виновным меня одного и доставить меня в отделение поручил — дворнику и той же ораве хулиганов, которая меня била. Нещадно избивали они меня и по пути в милицию — и на Невском, и на улице Желябова. Защищать меня пытался Костя — ему тоже досталось. Больной, полупарализованный Рахтанов при всем желании придти мне на помощь не мог — он следовал в отдалении и «ужасался тому, что происходило».
Утром я проснулся на полу в милицейской камере. Как я себя чувствовал, говорить не надо. На теле и на лице не было, что называется, живого места. Через полчаса меня отвели к дежурному.
— Получите ваши вещи, — сказал тот. Из железного ящика-сейфа он достал и передал мне бумажный сверток. В старую газету были завернуты — мой брючный ремешок, бумажник с деньгами, серебряная мелочь и — отдельно, в носовом платке — золотой крест на золотой цепочке. С удивлением вспоминаю, что по поводу креста не было произнесено ни одного слова. Даже когда я при милиционерах надевал через голову крест, никто ничего не сказал, не усмехнулся даже.
Через полчаса я был уже в уголовном розыске, где меня встретили как старого знакомого...
Впрочем, чувствую, что сильно затянул рассказ. Попробую рассказывать короче.
Встретили меня в розыске, как я уже сказал, грубо, заполняя анкету, обращались на ты. Я отвечать отказался. Три раза меня отводили в общую камеру и три раза вызывали снова.
— Отвечать будешь?— спрашивал мальчишка-следователь моего приблизительно возраста.
— На ты не буду, — отвечал я и снова шел в камеру. И вдруг тот же следователь вызывает меня еще раз:
— Садитесь.
Я сел.
— А впрочем — идемте.
— Куда?
— К заместителю начальника.
Сам этот юный садист (как говорили в камере сведущие люди — бывший уголовник, карманник) ведет меня к замначу УР'а, тот поднимается навстречу, с удивлением оглядывает меня и говорит:
— Вы Пантелеев?
— Да.
— Писатель?
— Писатель, — с трудом выжевываю я пересохшими губами.
— Так вот, товарищ Пантелеев, берем с вас подписку о невыезде и — можете считать себя свободным.
И заметив на моем лице недоумение, объясняет:
— Только что звонил, ходатайствовал за вас Максим Горький.
На площади Урицкого у подъезда уголовного розыска меня ждал верный друг мой Костя Лихтенштейн. При моем появлении он заметным образом содрогнулся. Но и на его лице тоже было немало следов вчерашнего побоища, — достаточно сказать, что нижняя Костина губа была надорвана и заклеена черным пластырем.