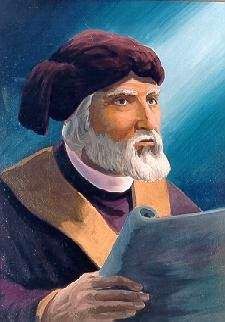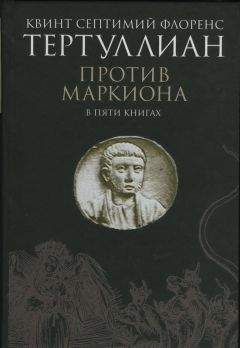Велико различие между преступлением и именем, между мнением и истиной. В самой природе имени заложено различие между названием вещи и ее существованием (dici et esse). Так, сколько людей носят имя философов, хоть и не исполняют закона философии? Все люди называются по имени своих занятий, однако кто не оправдывает их делом, порочит истину словесной видимостью. Имя не может тотчас придать существование называемому, и когда существования нет, имя оказывается ложным, обманывающим тех, которые приписывают ему сам предмет, в то время как оно зависит от предмета. Однако такого рода люди не приходят к нам и не имеют с нами общения, а через свои пороки снова делаются вашими, потому что мы не вступаем в общение даже с теми, которых ваше насилие или жестокость довели до отречения. А ведь к нам скорее допускались бы невольные изменники учения, нежели добровольные. Но между тем вы без основания называете христианами людей, от которых отрекаются сами христиане, которые не умеют отрекаться.
6.
Всякий раз как совесть ваша, тайный свидетель вашего незнания, бывает смущена и угнетена этими нашими доказательствами и возражениями, которые выставляет от себя сама истина, — вы что есть духу бежите в свое убежище, а именно под защиту законов. Конечно, вы не преследовали бы нашей секты, если бы этого не требовали законодатели! Что же воспрепятствовало самим исполнителям законов твердо держаться правил судопроизводства? Ведь за все преступления, преследуемые и караемые законами, кроме наших, наказание налагается не прежде, чем будет произведено следствие. Например, даже если дело касается убийцы или прелюбодея, все равно разбираются в характере содеянного, хотя всем известно, что это за преступления. Христианина наказывают законы. Если какое-либо преступление совершено христианином, то оно должно быть открыто: никакой закон не воспрещает производить расследование, которое идет даже на пользу законам. Ибо каким образом ты будешь соблюдать закон, остерегаясь того, что им запрещается, когда вследствие незнания ты лишен четкого представления о том, что именно ты должен соблюдать? Всякий закон сознается как справедливый не сам по себе, а благодаря тем, от кого он требует повиновения. Но подозрителен тот закон, который уклоняется от проверки. Поэтому законы против христиан вы до тех пор будете считать справедливыми, достойными уважения и исполнения, пока не узнаете то, что они преследуют. Когда же вы это узнаете, они окажутся в высшей степени несправедливыми и заслуженно будут отвергнуты с их мечами, крестами и львами: нельзя ведь уважать несправедливый закон. Я же полагаю, что справедливость некоторых ваших законов сомнительна, так как вы ежедневно умеряете их суровость и ограничиваете их бездарность новыми поправками и постановлениями.
7.
Но откуда в таком случае, говорите вы, могла взяться о вас такая молва, которой, судя по всему, оказалось достаточно законодателям? Но, спрошу я вас, какова порука или им тогда или вам теперь относительно ее достоверности? Да, молва существует. Но не эта ли молва есть «зло, быстрее которого нет ничего»? Однако почему же это зло, если бы она всегда бывала истинна? Не лжива ли она? Чаще всего она не отступает от склонности ко лжи даже и тогда, когда сообщает истину. Хотя в последнем случае молва не присоединяет лжи к истине, однако она эту истину преувеличивает, преуменьшает, прихотливо преобразует. Почему? Потому что это ей необходимо. Она существует только до тех пор, пока выдумывает. Она живет, пока не объявит о чем-либо. После этого она гибнет и, как бы исполнив долг вестницы, исчезает. Соответственно этому молва все всегда указывает определенно и точно. Ведь никто не говорит, например: «Утверждают, что это случилось в Риме», или: «Есть слух, что он получил провинцию». Но всегда говорят: «Он получил провинцию» и: «Это случилось в Риме». Кроме одного лишь сомневающегося в своих словах никто не ссылается на молву, потому что всякий уверен, что он знает, а не мнит. Никто не верит молве, кроме глупого, потому что мудрый не верит неверному. Молва, как бы широко она ни была распространена, всякий раз, несомненно, исходит из одних уст, а потом мало-помалу распространяется посредством других языков и ушей, и первоначальный незначительный ее источник заглушается сплошным шумом общего говора, так что никто не задумывается о том, не ложь ли была посеяна теми первыми устами. А это часто случается — или по врожденной склонности к зависти, или по беспричинной подозрительности, или просто по страсти измышлять. Но хорошо, что время открывает все, как об этом свидетельствуют ваши изречения, пословицы и сама природа, которая так устроена, что ничто не скрывается, даже и то, о чем молва не возвестила.
Смотрите, что за диковинный закон выставили вы против нас. Некогда закон этот нас обвинил, немалое протекшее с тех пор время подкрепило обвинение и довело его до достоверности, но доказать выдвинутые обвинения так и не удалось. При императоре Августе имя Христа появилось, при Тиберии учение Его засияло, при Нероне распространилось гонение на христиан, так что вам стоило бы задуматься о личности гонителя. Если этот император благочестив, то нечестивы христиане. Если он справедлив, невинен, то несправедливы и виновны христиане. Если он не враг общества, то враги общества мы. Каковы мы, это показал сам гонитель наш, который наказывал, конечно, то, что противостояло ему. И хотя все законы Нерона уничтожены, этот один остался — очевидно, потому, что он справедлив и непохож на своего автора.
Итак, мы существуем пока еще менее 250 лет. В это время было столько злодеев, столько удостоившихся вечности крестов, столько умерщвленных детей, столько залитых кровью хлебов, столько ниспровержений светильников, столько прелюбодеяний, и однако доселе о христианах доносится одна только молва. Разумеется, эта молва имеет прочное основание в извращенности человеческого ума: она успешнее производит действие в людях грубых и жестоких. Ибо чем более они расположены ко злу, тем более способны верить ему. Вообще они легче верят вымышленному злу, чем действительному добру. Если бы, однако, несправедливость оставила в вас место благоразумию, то, конечно, справедливость при исследовании достоверности молвы потребовала бы обратить внимание на то, кто мог быть источником ее распространения в народе, а потом и во всем мире. Я полагаю, что таким источником не могли быть сами христиане, так как и по букве и по духу всех таинств в них обязателен обет молчания. Но тем более такого обета молчания требуют те таинства, которые, будучи разглашены, не избежали бы скорого наказания по человеческому суду. Значит, если не сами христиане это объявляют о себе, то посторонние люди. Спрашиваю вас: откуда знают это посторонние люди, когда даже законные и дозволенные таинства опасаются всякого стороннего свидетеля? Уж не допускают ли таких свидетелей недозволенные таинства? Но посторонним более свойственно незнание и вымыслы. Или узнать тайны помогло любопытство домочадцев, подглядывавших через щели и скважины? Но когда это домочадцы выдавали вам своих господ? Разве они не стали бы на нас с готовностью доносить, если бы жестокость наших деяний была такова, что справедливое возмущение нами с легкостью рвало бы узы дружбы? Да и не могло быть скрыто то, от чего содрогается разум, мутится зрение.
Это удивительно, равно как и то, что один, повинуясь своему нетерпению, поспешил донести и не пожелал это доказать, а другой, услышав, не приложил усилий к тому, чтобы увидеть это. Ведь одинаковая была бы заслуга и доносчика, доказавшего то, о чем он донес, и слушателя, если бы он увидел то, что услышал. Вы говорите: тогда, в самом начале донесли и доказали, услышали и увидели, а потом все вверили молве; но было бы достойно всяческого удивления, если бы то, что делается постоянно, было обнаружено лишь однажды, разве только если мы перестали это делать. Но мы носим все то же имя, и в том же обвиняемся, и со дня на день увеличиваемся в числе. А чем больше нас, тем большим мы ненавистны. С возрастанием предмета ненависти все более и более возрастает и ненависть. Но отчего с увеличением числа преступников не увеличивается число доносчиков на них? Мне известно, что сношения ваши с нами сделались чаще. Вы знаете дни наших собраний, почему нас и осаждают, и притесняют, и хватают на самых тайных наших собраниях. Однако наткнулся ли кто когда-нибудь на полуобъеденный труп? Заметил ли кто-нибудь на залитом кровью хлебе следы зубов? Увидел ли кто какое-либо бесчинство, чтобы не сказать кровосмешение, рассеяв мрак внезапным светом? Если мы деньгами достигаем того, чтобы нас не привлекали к суду в таком качестве, то почему нас все-таки преследуют? Мы и вообще могли бы не подвергаться суду. Ведь кто может защищать или осуждать какое-либо преступление только по имени, без самого преступления? Но зачем мне устранять сторонних соглядатаев и свидетелей, когда вы обвиняете нас в том, что нами же самими было громогласно объявлено, что было вами или тотчас услышано, если наперед было сообщено, или потом было открыто, если временно скрывалось? Ибо, несомненно, есть обычай, в силу которого желающие посвящения сначала приходят к главе или отцу таинств. Тогда он скажет: «От тебя требуется грудной младенец, чтобы принести его в жертву; нужно много хлеба, чтобы омочить его в крови; кроме того, необходимы подсвечники, которые опрокинули бы привязанные к ним собаки, и приманка, которая заставила бы этих собак броситься. Но что особенно необходимо, так это твои мать или сестра». А если ни той, ни другой у тебя нет? Тогда ты, очевидно, не можешь быть правоверным христианином. Спрашиваю вас: разве это можно утаить, если именно так проходит посвящение? Вернее будет, если они останутся в неведении. Сначала будет подготовлен обряд для отвода глаз. Непосвященным предложат пышные обеды и бракосочетание, ибо прежде они ничего никогда не слышали о христианских таинствах. Однако со временем они неизбежно все узнают, хотя бы по тому, как будут посвящать других. Но как возможно, чтобы непосвященные знали то, чего не знает сам жрец? Поэтому они молчат, ничего подобного не открывают и не разглашают народу трагедии Фиеста и Эдипа. Жесточайшими мучениями не могут добиться правды у служителей, учителей и самих посвященных в таинства. Но если это все не доказано, то я не знаю, сколь великим должно быть то вознаграждение, что оно стоило бы перенесения таких мучений.