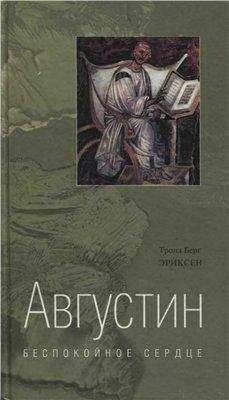Так, для «бывших христиан», но для настоящих и будущих, может быть, и не так.
Знает Августин, за что борется, не только со своим веком, но и с веками грядущими. Хуже «сатанинских глубин» Манеса человеческая плоскость Пелагия; бурный манихейский натиск на христианство извне, может быть, менее опасен, чем Пелагиев тихий подкоп изнутри, тихое внутреннее уничтожение, выветривание истины ложью.
Если бы врачу сказали, что черное чумное пятно — только синяк от ушиба, — завтра заживет, то врач почувствовал бы то же, что Августин, когда ему сказал Пелагий, что первородный грех — ничто.[244]
LXVIII
«Первое место — разуму». — «Вера самой кафолической Церкви не признает никакой власти выше разума». С этим и Августин почти согласился бы. Вот скользкая почва, где ловкий диалектик Юлиан, ученик Пелагия, «подставляет ножку» Августину, чтобы тот сломал себе шею. Но не сломает: есть у него незыблемая точка опоры, — не только догмат о первородном грехе, но и опыт. Тайна зла, во времени, есть какая-то «премирная вина», в вечности, — «первородный грех»: это Августин знает, уже в «Исповеди», за пятнадцать лет до спора с Юлианом и Пелагием.[245]
Врач, смертельно заболевший и с неумолимою точностью наблюдающий за ходом болезни на собственном теле, чтобы сделать открытие, которое может спасти других от той же болезни, — вот кто такой Августин в этом страшном опыте зла.
Чтó, казалось бы, чище, белее души новорожденного младенца? Но и на этой белизне ангельской есть черная чумная точка — «первородный грех».
«Кто напомнит мне грехи младенчества моего?.. Чем я мог грешить тогда? Тем, что уже плакал (от жадности, „похоти чрева“), когда сосал грудь матери, и, если чего-нибудь хотел и мне не давали, — тоже плакал и сердился так, что готов был прибить отца и мать… Видел я однажды сам младенца… который, глядя на своего молочного брата, сосавшего грудь той же кормилицы, бледнел от зависти и ревности… Но если так, — если во грехе зачала меня матерь моя, то когда же, Господи, и где я был невинен?»[246]
Вот какие атомы, «бесконечно малые величины», души человеческой взвешивает Августин, первый из людей, на весах Господних, как химик на точнейшем приборе, чтобы найти «простое химическое тело» Зла — «первородный грех».
LXIX
«Похоть чрева» — у двухмесячного Адама, а у семидесятилетнего — «похоть сладострастия», libido.
«В памяти моей живут и доныне образы того, о чем я говорил так много (о сладострастной похоти): их запечатлела в памяти привычка, и хотя, наяву, они уже бессильны, но все еще во сне влекут меня к наслажденью и даже к согласью на него в действии, точно таком же, как наяву… И так силен их обман в теле моем и в душе, что он соблазняет меня к тому, к чему и сама действительность не могла бы соблазнить».[247]
Это — на пороге старости — святости, а судя по тому, что, переступив и за порог, не смеет он остаться наедине с родной сестрой-монахиней, вся его жизнь, от колыбели до могилы, — «сплошная похоть», libido sine ullo interstitio.
Первый, еще бессознательный опыт Зла — у грудного младенца, а второй, сознательный, — у шестнадцатилетнего мальчика, уже томящегося «похотью», около тех самых дней (совпадение времен не «случайное»), когда он смеется над крещением.[248]
«В городе Тагасте, по соседству с нашим виноградником, росло грушевое дерево, с плодами, не слишком приятными на вид и на вкус». Этот плодовый сад — Рай; это грушевое дерево — Древо познания добра и зла; этот шестнадцатилетний мальчик, Августин, — Адам.
«Помню, однажды, в глухую ночь, мы, шайка негодных мальчишек, продолжив игры наши нарочно до такого позднего времени, отправились в сад к этому дереву, чтобы потихоньку нарвать с него груш (украсть). И, сделав это, унесли их великое множество, но не для лакомства… потому что, едва отведав, бросили их свиньям, а для чего-то иного… Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое… пусть скажет оно Тебе, чего искало в этом бескорыстном зле — зле ради зла». — «Гнусно было зло, но я его хотел; я любил себя губить, amavi perire; любил мой грех, — не то, ради чего я грешил, а самый грех. Гнусная душа моя низвергалась с неба Твоего, Господи, во тьму кромешную. Я хотел не чего-либо стыдного, а самого стыда».[249]
Вот оно, «простое химическое тело» Зла — в чистейшем виде, «Первородный Грех» — восстание человека на Бога, «воля к превратности», perversitas, — «Зло ради зла».
… «Ибо душа моя прелюбодействует, fornicatur, когда, отвращаясь от Тебя, Господи, ищет… того, что может найти только в Тебе. Но, как бы далеко ни уходила она от Тебя, — хочет она Тебе уподобиться… потому что некуда ей бежать от Тебя… Что же я тогда любил в воровстве моем?.. чем хотел уподобиться Тебе, хотя бы и превратно? Не тем ли, что мне было сладко преступать закон… и, будучи рабом, — казаться свободным… в темном подобии Всемогущества Божия, tenebrosa omnipotentiae similitudine?»[250]
Кажется, в религиозном опыте всего христианского человечества не будет ничего подобного этому, вплоть до «Демона превратности» Эдгара Поэ и «Записок из подполья» Достоевского.
И кто из людей, от первого человека, Адама, до последнего человека на земле, не узнает себя в этом?
LXX
С этим-то огненным оружием опыта и вступает Августин в борьбу с Пелагием, безопытным, безогненным, и одним прикосновением уничтожает его, испепеляет, как солому.
О, если бы увидели все, что Августин уничтожил Пелагия действительно. Но этого почти никто не увидел тогда и долго еще не увидят все, — может быть, до того дня, когда сказано будет жнецам Господином жатвы:
«Соберите плевелы (солому)… чтобы сжечь, а пшеницу уберите в житницу Мою» (Мт. 13, 30).
Кончен был спор Августина с Пелагием, но с самим собою не кончен, — бесконечен, opus imperfectum.
«В какие извилины мысли, circuitos… впутывает нас твой ответ!» — мог бы теперь сказать Августин самому себе, так же как говорил другому, тридцать лет назад, в споре о том же — о существе Зла. Сколько в самом деле новых «извилин», «лабиринтных ходов» мысли откроется перед ним в этом страшном опыте зла! «Я все искал, искал и не находил исхода».[251]
Здесь-то и начинается трагедия св. Августина, святого человека и грешного человечества, и только с тремя действующими лицами — Богом, Человеком и диаволом. Борется за Бога человек, защищает Бога от диавола. Нет ничего жалостней, чем эта борьба слабого за Сильного, мертвого за Живого, временного за Вечного, но и величественней нет ничего. Были и будут, вероятно, в воле и чувстве поединки и больше, чем этот; но в мысли, кажется, не было и не может быть большего.
LXXI
«Снова я спрашивал, rursum dicebam»… «Снова», — как тридцать, сорок, пятьдесят лет назад, и если бы прожил еще тридцать, сорок, пятьдесят лет, то спрашивал бы «снова» и «снова». В этих-то «вечных возвращениях», «повторениях», — главная мука — безысходность, бесконечность вопроса, как бы предвкушение вечных мук во времени. Каждое из этих бесчисленных «снова» — новый поворот, новая, все в том же Лабиринте, «извилина», circuitus: «я все искал, искал и не было исхода».
… «Снова я спрашивал: не всеблаг ли Бог? Как же я могу желать зла и не желать добра?.. Не весь ли я создан Господом моим, сладчайшим; кто же насадил во мне это горькое семя? Если диавол, то откуда и он? Если злая воля сделала его из Ангела диаволом, то откуда она и в нем, создании Всеблагого?» Где же корень Зла? «В изволении или допущении Божием, Deo jubente aut sinente?»[252]
Или «зло не есть бытие, а лишь отрицание бытия», «постепенное лишение, убыль добра»? Если «творить» — значит «вызывать из небытия — из ничего», а зло и есть «небытие», то Бог не мог бы создать мира из ничего без зла?[253] Не этим ли Бог и оправдан? Нет, еще не оправдан: если чего-то «не мог», то не всемогущ. Это во-первых, а во-вторых: не лучше ли было бы не создавать мира вовсе, чем создавать его таким, как этот мир, «лежащий во зле»? И, наконец, в-третьих: зло, хотя бы и «несущее», есть причина всех страданий, — всех смертей, не только всей твари, но и самого Сына Божия, Несотворенного. Можно ли ответить на кровавый пот Гефсимании, на стук молотка по крестным гвоздям: «этого нет; это из ничего почти ничто; это есть, как бы не есть, est non est?».
«Ясно для веры — темно для ума», — заключает Августин.[254] Нет, наоборот: для ума ясно — для веры темно.
LXXII
И кружится-кружится, путается «снова», в лабиринтных «извилинах» мысли, как сорок лет назад, когда боролся еще с манихейскою ложью.
Тот же Лабиринт, как тогда, но теперь как бы уже в мире ином. Стены того сплочены были из черной тьмы кромешной, а стены этого — из света ярчайшего, как бы из облачно-белой, невидимым солнцем пронизанной, мглы; но хуже той, черной, слепит эта белая тьма. Тогда заблудился во лжи, а теперь — в Истине, или во многих противоречивых истинах. В нищенских лохмотьях был тогда, как тот, встреченный на глухой улочке, «пьяный бродяга», а теперь — в святительских ризах. Шел тогда с пустыми руками, а теперь несет такое сокровище, которого весь мир не стоит, — чашу с Телом и Кровью: что, если споткнется в слепой белой тьме и Чашу уронит?