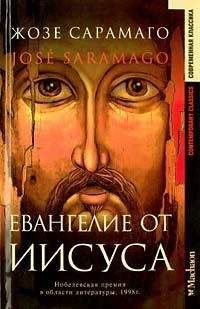Пленные решили, что идет командир когорты, сосед сказал Иосифу: Готовься, имея в виду: Готовься, тебя сейчас отпустят на свободу, словно для свободы нужна какая-то особая подготовка, но если кто и пришел, то не командир когорты, да и вообще осталось неясным, кто это был, потому что начальник отдал приказ своим солдатам на латыни, и, надо отметить, все, что говорилось солдатами до сих пор, говорилось только на латыни, не унизятся же сыны римской волчицы до изучения варварских наречий, на что же тогда переводчики, однако в этом случае разговор вели военные между собой, и надобности в переводе не было, легионеры быстро окружили пленных: Шире шаг! – и процессия – приговоренные вначале, за ними жители Сепфориса – направилась прочь из города. Когда Иосиф понял, что его уводят вот так, не дав даже испросить пощады, он воздел руки к небу и закричал: Спаси меня, я не такой, как эти, спаси меня, я невиновен, но приблизившийся к нему солдат вытянул его древком копья по спине так, что Иосиф едва устоял на ногах. Надежда покинула его. В отчаянии возненавидел он Ананию, из-за него теперь Иосиф обречен на смерть, но это чувство, опалив все нутро его, исчезло, как и явилось, оставив в душе Иосифа пустыню. Больше идти некуда, словно бы думал он, однако заблуждался: было, было еще куда идти, правда недалеко. Трудно поверить, но близость неизбежной смерти умиротворила его.
Он оглядел своих товарищей по несчастью и скорой муке, они шли спокойные, кое-кто тащился понуро, но прочие шагали, расправив плечи и подняв голову. В большинстве своем это были фарисеи. И тогда Иосиф впервые вспомнил о детях, мелькнула мысль и о жене, но слишком много оказалось этих родных лиц, имен, и голова его от голода и недосыпа пошла кругом, в кружении этом теряя их по дороге, пока в ней не остался лишь один Иисус, первородный сын его, последнее его наказанье. Иосиф вспомнил, как говорили они о его сновидении, как он сказал сыну: И ты не все вопросы можешь мне задать, и я не все ответы могу дать тебе, а теперь вышел срок и спрашивать и отвечать.
За городом, на небольшом естественном возвышении, видном с улиц Сепфориса, стояли, по восемь в ряд, сорок вбитых в землю толстых брусьев, достаточно прочных, чтобы выдержать вес человека. Рядом с каждым брусом на земле лежала длинная перекладина, как раз на размах раскинутых рук человека. При виде орудий казни несколько приговоренных попытались было бежать, но солдаты службу знали и преградили им путь, один повстанец кинулся было на меч, но втуне – легкой смерти он себе не стяжал, первым же его и поволокли к кресту. И споро пошла работа: руки приговоренных прибивали к поперечинам, потом поднимали к верхушкам вертикальных брусьев. Вокруг повсюду слышались стенания и крики, рыдал народ Сепфориса, который во устрашение заставили смотреть на это зрелище. Вскоре кресты уже воздвиглись в завершенном виде, на каждом висел человек с подогнутыми ногами, и любопытно было бы узнать, а это-то зачем, может, из Рима поступило такое указание, и отдано оно было с целью рационализации труда и экономии расходных материалов, ведь даже человек, вовсе несведущий в технологии распятия, сообразит, что если подвешивать человека в полный рост, то крест должен быть высоким, соответственно увеличивается расход материалов, возрастает объем грузоперевозок, с большими трудностями сопряжена установка, и следует также принять во внимание, что невысокий крест создает благоприятные, в данных, конечно, обстоятельствах, возможности для казнимых: ведь если ногами они почти касаются земли, то и снимать их потом будет легче, не нужны никакие лестницы, и они попадают, так сказать, прямо в объятия родных и близких, если таковые имеются, или тех, кто будет хоронить их по долгу службы, не век же им тут, согласитесь, висеть. Иосифа распинали последним, уж так получилось, и потому пришлось ему смотреть, как одного за другим обрекают на муки тридцать девять его незнакомых товарищей, а когда настал его черед и потеряна была всякая надежда, сил на то, чтобы еще раз заявить о своей невиновности, у него не хватило, упустил он, наверное, и возможность спасти себя, когда солдат с молотком сказал своему начальнику: Этот говорил, что на нем нет вины, и начальник вдруг задумался, тут бы и закричать: Я невиновен, но Иосиф промолчал, сдался, и тогда начальник огляделся, и, верно, показалось ему, что утрачена будет симметрия, если не использовать последний крест, ибо сорок – число хорошее, круглое, и махнул рукой, и гвозди были вогнаны, а Иосиф вскрикнул и кричал еще и еще, его подняли вверх, и он всей тяжестью тела повис на гвоздях, пробивших запястья и снова закричал, когда длинный железный штырь пронизал сложенные ступни, хвала Тебе, о Господи мой Боже, это я, человек, которого Ты создал, ведь проклинать Тебя запрещает Закон. Вдруг, словно кто-то дал знак, народ Сепфориса издал дружный горестный вопль, но не из сострадания к казнимым – это по всему городу разом вспыхнули пожары, пламя, как запал греческого огня, с воем пожирало жилые дома, общественные здания, деревья во внутренних двориках. Не обращая внимания на пожар, который разожгли другие легионеры, четверо солдат, отряженных в помощь палачам, бежали вдоль рядов распятых и железными ломами дробили им берцовые кости. Пока один за другим умирали распятые на крестах, горел и выгорел дотла Сепфорис. Плотник по имени Иосиф, сын Илии, был человек молодой, в расцвете сил, на днях исполнилось ему тридцать три года.
* * *
Когда окончится эта война – а ждать осталось недолго, ибо уже слышны ее предсмертные хрипы, – люди точно установят число всех, кого там и тут, вблизи и вдали, унесла она, и если количество павших на поле брани, погибших в засадах и стычках постепенно утратит свое значение или даже вовсе забудется, то те две примерно тысячи казненных на кресте останутся в памяти жителей Иудеи и Галилеи, и говорить о распятых будут еще много лет спустя, до тех пор, пока земля не обагрится новой кровью другой войны. Две тысячи распятых – это очень много, а покажется – еще больше, если только представить себе столбы, вкопанные вдоль дороги в километре один от другого, или, например, по периметру страны, которая когда-нибудь получит название Португалии, ибо именно такова будет примерная протяженность ее границ. На всем пространстве от реки Иордан до моря слышен плач вдов и сирот: такое уж их вдовье и сиротское дело – плакать и стенать, а потом дети подрастут, пойдут на новую войну, и место их займут новые вдовы и сироты, и если меняются обычаи и обряды и в знак траура вместо белого, к примеру, облачаются в черное или наоборот, если вместо того, чтобы рвать на себе волосы, их прячут под кружевным покрывалом, то слезы во все времена одни и те же.
Мария еще не плачет, но душа ее объята предчувствием – муж домой не вернулся, а люди в Назарете толкуют, будто Сепфорис сожгли дотла и многих там распяли. И, взяв с собой своего старшего, Мария повторяет путь, которым вчера прошел Иосиф, ищет следы, оставленные его сандалиями, время дождей еще не настало, и ветер еще тих и легок и едва-едва притрагивается к земле, однако следы Иосифа уже превратились в следы какого-то доисторического зверя, обитавшего здесь в незапамятные времена. И когда мы говорим: Вчера, это то же, что сказать: Тысячу лет назад, ибо время – не веревка с узлами, которую можно измерить пядь за пядью, время – это волнистый откос, и одна лишь память наша способна привести его в движение и приблизить к нам. Вместе с Марией и Иисусом идут другие жители Назарета, влекомые кто сочувствием, кто любопытством, есть среди них и какие-то дальние родичи Анании, но они-то вернутся по домам, одолеваемые теми же сомнениями, с какими покидали их: раз не нашли его труп, стало быть, он жив, а в амбаре поискать не сообразили: глядишь, и нашли бы своего мертвого среди других, обращенных, как и он, в уголь. Когда на полпути назаретянам встретятся солдаты, направляющиеся в их городок, кое-кто, беспокоясь о своем достоянии, по вернет назад, ибо разве узнаешь, что придет в голову солдатам, когда, постучав в дверь, не услышат они из-за двери никакого ответа. Старший же над солдатами желал знать, что нужно этой деревенщине в Сепфорисе, что они там позабыли и зачем идут туда. Поглядеть на пожар идем, ответят те, и старший удовлетворится таким ответом, поскольку от сотворения мира пламя влечет к себе человека, и иные мудрецы утверждают даже, что это бессознательный отклик на зов, идущий изнутри, на воспоминание о первоначале, словно в пепле заключена память о том, что сгорело, и этим-то объясняется, почему так завороженно смотрим мы на огонь, горит ли он в очаге, согревающем наше жилище, или дрожит на фитильке свечи, жилище это освещающей. Будь мы столь же неразумны и безрассудно-отважны, как мотыльки и бабочки и прочая мошкара, то, должно быть, весь род человеческий в полном составе бросился бы в огонь, и уж тогда бы вспыхнуло и полыхнуло с такой силой, что свет этот проник бы и сквозь закрытые веки Бога, пробудил бы его от летаргического сна, да вот жаль только, что он бы уж не успел узнать и разглядеть нас – сгинувших в пламени. Мария, хоть у нее полон дом детей, оставленных без присмотра, назад не повернула – она так и идет, как шла, и даже не очень встревожена, потому что не каждый же день врываются в город воины царя Ирода избивать младенцев, да и потом, наши славные римляне не только не препятствуют тому, чтобы дети росли, но даже как бы и поощряют их к этому – пока что живите, а дальше видно будет, и дальнейшее зависит от того, насколько будете вы законопослушны, благонравны, да чтобы платили подати вовремя. И вот шагают по дороге Мария с Иисусом, а полдюжины родичей Анании, увлекшись разговором, отстали, плетутся поодаль, а поскольку нет у матери и сына иных слов, кроме тех, которыми можно высказать лишь снедающую их тревогу, идут они молча, чтобы не терзать Друг друга, и странная тишина воцаряется вокруг – не слышно ни птичьих голосов, ни посвиста ветра, ничего, кроме шагов, но и этот звук все слабее и глуше, будто какой-то честный прохожий, забредя ненароком в покинутый хозяевами дом, в смущении торопится выйти оттуда. И за очередным, последним поворотом дороги вдруг открылся Сепфорис, кое-где еще объятый пламенем и весь окутанный уже редеющей пеленой дыма, Сепфорис с почерневшими от копоти стенами домов, с деревьями, обугленными, но сохранившими листву, которая стала теперь ржавого цвета. А вон там, справа от нас, – кресты.