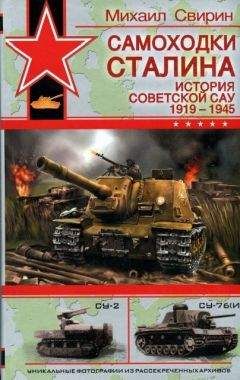Рано утром я позвонил по телефону директору Института; его жена любезно мне ответила, что он сегодня утром вылетел на аэроплане в Москву по специальному вызову из соответствующего министерства (тогда еще — народного комиссариата). Потерпев неудачу, я позднее позвонил его заместителю. Того не оказалось, ни дома, ни в Институте. Создалось "угрожающее" положение. Не пойти, по совету директора, я не мог, ибо меня представитель комиссариата застал дома и найти законный повод для неявки и оформить ее — уже не было времени.
Без официальной санкции Института и вмешательства дирекции, не идти было нельзя. Я избрал самый нормальный путь, который был бы наиболее естественен для всех людей, если они имеют дело тоже с нормальными людьми. Я решил пойти и объяснить создавшееся положение, полагая, что действия военных чиновников в СССР подчинены хотя бы до известной степени логике и здравому смыслу.
Но я ошибся. В военном комиссариате, как всегда, было много народа. Выяснить зачем меня вызвали мне не удалось. Сдав свою повестку, я стал ждать. Скоро меня позвали…
В большой залитой солнцем комнате, у письменного стола, сидела группа военных. На председательском месте, в центре, находился майор, с двумя орденами на груди, полученными им, как я узнал впоследствии, за финскую кампанию. Мне предложили сесть. Просмотрев мою учетную карточку, майор обратился ко мне:
— Товарищ Константинов, вы в армии до сих пор не служили. Вы числитесь у нас, как специалист, но сейчас мы вас использовать по специальности не можем. Нам нужны строевые командиры. Поэтому мы хотим вас послать на трехмесячные курсы командного состава, на которых вы переквалифицируетесь в строевого командира.
— И кем же я буду потом, — осведомился я.
— Командиром стрелкового взвода — коротко ответил он.
Я возмутился.
— Товарищ майор, неужели у нас так много квалифицированных ученых, что вы посылаете их командирами стрелковых взводов? Учтите, что моя специальность применима в армии. Специалистов по моей профессии и моей квалификации в Ленинграде всего три человека.
Недавно вы двух моих студентов, учившихся у меня, послали в армию работать по специальности, а меня посылаете "учиться" на командира взвода!
— Что же делать, — возразил майор — нам не нужны сейчас ученые, а нужны солдаты.
— Но ведь это весьма близорукая точка зрения!
— Вам не дано право оценивать действия военного командования, — вспылил майор.
— Товарищ майор, разрешите вопрос, — обратился к майору молодой капитан с интеллигентным лицом, сидевший на конце стола и с явным сочувствием ко мне наблюдавший эту сцену.
— Пожалуйста….
— Товарищ Константинов, — обратился ко мне капитан, — вам уже за 30 лет?….
— Да…
— Вы занимались когда либо спортом?…
— Очень мало и в ранней молодости….
— Каким именно?
— Водным спортом….
— И только?…
— Да….
— Товарищ майор, — обратился он к председателю, — я думаю, что едва ли здесь, что либо получится….
— Ничего справится — пробурчал майор.
— Товарищ майор, — снова заговорил я, — ведь я же забронирован за Институтом…
И в кратких словах я изложил ему суть дела.
— Все это может быть и так, — сказал майор, — но дело в том, что данная комиссия имеет право действовать самостоятельно, да и кроме того у меня нет сейчас на вас соответствующих бумаг. Они к нам не поступали. Через неделю вы должны явиться в школу и за эту неделю пусть ваш директор выяснит этот вопрос. Но вообще все должны идти сражаться! Отдайте ваш паспорт, вот вам удостоверение о мобилизации и направление в школу. Явитесь в нее 10 августа. На здоровье вы, конечно, не жалуетесь?….
Разговор был окончен.
Я вышел на улицу. Оставалась надежда, что в имевшийся семидневный срок эта нелепость будет исправлена. Но где то в глубине души росла уверенность непоправимости случившегося.
Глава 3
В ОФИЦЕРСКОЙ ШКОЛЕ
Я пришел домой усталый и разбитый. Меня снова окружила привычная обстановка. Полки с книгами, письменный стол; на нем корректура моей последней работы, не успевшей выйти до войны. Шкаф с рукописями лекций и архивные материалы…
Знакомая, привычная, уютная, но вместе с тем, и рабочая обстановка, необходимая для всякого работника напряженного умственного труда. Несколько научных книг и десятки статей были созданы в этих стенах.
Передо мной, несмотря на войну, благодаря моей редкой специальности, открывалась широкое поле деятельности. Я не любил советскую власть, считая ее антинародной, но любил свое дело — чувство, которое поймет всякий специалист. Это дело было, вместе с тем, единственной отрадой в подневольной жизни советского человека.
В моем распоряжении оставалась неделя. За этот промежуток времени я должен был развить максимум энергии, чтобы исправить явно нелепое решение "особо компетентной" военной комиссии.
Но и эта надежда рухнула самым неожиданным образом.
В первую же ночь, после посещения мною военного комиссариата, в моей квартире снова раздался звонок и мне снова была вручена повестка о явке к 8 часам следующего дня.
Когда я пришел в комиссариат, там еще почти никого не было. Дежурный, проверив мои бумаги, сообщил мне:
— Видите ли, со вчерашнего дня произошли некоторые перемены и вы направляетесь в такую же, но другую школу; явиться вы должны туда не через неделю, а к 10 часам утра, сегодня. В случае опоздания, вы подлежите суду военного трибунала….
Все было слишком ясно. Я понял кто постарался за меня. Очевидно, мое поведение не понравилось председателю "особо компетентной" комиссии и он решил меня доконать.
Нас собралось в школе около трехсот человек. Научные работники, артисты, юристы, хозяйственники, учителя — группа интеллигентов, включающая самые разнообразные специальности, с весьма значительной прослойкой людей с высшим образованием.
Занятия сводились к бесконечным маршировкам и походам по улицам города, к изучению основных видов пехотного оружия и стрельбы из него; затем теория и практика штыкового боя, элементы тактики в пределах взвода и роты, военная топография и, разумеется, бесконечные политзанятия, без которых никогда и нигде нельзя обойтись.
День был построен так, чтобы люди не могли ни о чем подумать. В 6 с половиной утра — "подъем", в 7 с четвертью — завтрак, в 8 — начало занятий, в 12 — обед, затем час отдыха, снова занятия до 6 вечера, потом ужин, часы, так называемой, "самоподготовки" и в 10 с половиной часов вечера — отбой. И так каждый день.
Это расписание прерывалось какими-нибудь ночными походами и караульной службой в ближайших к школе районах города.
Так как среди нас были большей частью люди никогда не служившие в армии, то вполне понятно, что далеко не все из них смогли вынести этот, в достаточной степени, напряженный "рабочий день". Но отсева почти не было. Людей предпочитали держать в школьном госпитале, но не демобилизовывали, несмотря на их явную непригодность. С момента объявления войны медицинские комиссии почти никого не браковали, поэтому, в армию попадали элементы совершенно непригодные для несения строевой службы.
7 сентября начались налеты немецкой авиации на Ленинград.
В прекрасный осенний солнечный день, в послеобеденное время, немецкая авиация разбомбила, так наз. "Бадаевские склады", в которых были сосредоточены запасы продовольствия для города. Ленинград по милости советских головотяпов, остался без продовольствия. Одновременно, немецкие войска подошли к городу и стали вести бои вокруг него. Начались непрестанные, дневные и ночные, налеты немецкой авиации.
В городе стал чувствоваться недостаток продуктов питания. Еще немного и должен был начаться настоящий голод. Политзанятия, которые вел комиссар школы, стали превращаться в истерические речи по текущему моменту. Все больше и больше стало напоминаний о "великом русском народе", о его героизме, об отечественной войне 1812 года, о Минине и Пожарском, о Суворове, о Кутузове, о Великом князе Александре Невском, и даже об…. Иване Сусанине.
Выступления комиссара превращались в какие то рыдания без слез. Чувствовалась полнейшая растерянность и недоумение от той катастрофической картины, которая создалась на третьем месяце войны.
И это было понятно. Политические работники красной армии, как правило, все без исключения были членами партии. Служебное и общественное положение в армии и на гражданской работе определялись не их действительными знаниями, специализацией в какой-нибудь нормальной для всякого человека профессии, а исключительно наличием у них партийного билета. Подавляющее большинство из них, оставаясь по каким либо причинам без партийного билета, были годны лишь для роли чернорабочего. В лучшем случае, некоторые из них, имея какую то "допартийную" специальность, возвращались к прежнему ремеслу, становясь слесарями, токарями, сапожниками и т. д. Но многие из них, главным образом, молодежь, попадали, после обычной общегражданской школы, в специальные партийные школы, где становились профессиональными политработниками, не умея и не зная ничего, кроме агитации и пропаганды по заранее преподанным шаблонам. Для этих потеря партийного билета означала превращение в подметальщика улиц.