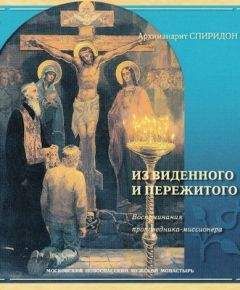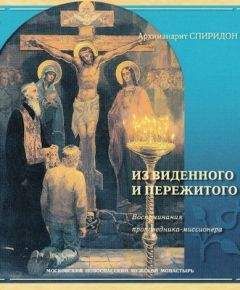Когда я пошел на ту улицу, где находится подворье, то один бедняга увидел, что я деревенский мальчишка, схватил у меня мою последнюю шубенку и побежал от меня. Я ничего ему не сказал, хотя было и жаль шубенку. Прихожу я на подворье. Монахи, видя меня таким замухрышкой, стали мною интересоваться, расспрашивать. Когда они узнали, что я хочу быть на Афоне, то одни смеялись надо мной, другие же смотрели на меня как на ненормального мальчугана. Только один из них приласкал меня и сказал мне серьезно, что я как по своей крайней молодости, а затем, как беглец от родителей, хотя бы имел и деньги и документы, все равно, я на Афоне быть не могу. Эти слова монаха как громом срезали меня. Я заплакал. Настала ночь. Я от тоски ни пить, ни есть не мог. Когда все паломники улеглись спать, я из этой комнаты вышел и начал в молитве изливать всю свою тоску. На заре я пришел в ту комнату, где мне было отведено место среди других паломников. Я лег спать. Во сне вижу икону святого мученика Пантелеймона. Утром встал и отправился по городу искать какую-нибудь себе работу. Все, к кому бы я ни обращался, смеялись надо мною, а слезы так и катились по моим щекам. Не помню на.какой улице, подошел ко мне один господин, довольно прилично одетый, и, видя, что я так сильно плачу, спросил меня: «Мальчик, о чем ты так сильно плачешь?» Я рассказал все подробно, как я ушел от родителей, как я дошел до сего места и как я хочу быть на Афоне. Выслушав меня, господин ввел меня в свой дом, сел за письменный стол, написал мне прошение на имя градоначальника Зеленого и велел мне взять свои документы и положить в это прошение и отправиться сейчас же к градоначальнику. Я так и сделал. Прихожу к градоначальнику. Когда градоначальник Зеленый увидел меня, то засмеялся и тут же взял от меня мое прошение и начал его читать. После этого он попросил по телефону Пантелеймоновского подворья настоятеля. Когда настоятель этого подворья явился к градоначальнику, то градоначальник указал ему на меня, велел ему отправить меня на счет монастыря на святой Афон. Боже мой, какою радостью тогда наполнилось сердце мое, и я не знал, как и благодарить Господа Бога за Его ко мне великую милость! А паломники один перед другими спешили спрашивать меня и почти все удивлялись провидению Божию, свершившемуся надо мной. На следующий день я вместе с паломниками оправился на пароходе в Константинополь. Море на меня мало произвело впечатления. Но вот на третий день рано утром я увидел город необыкновенной красоты — Константинополь. Меня особенно поразило его местоположение и бесчисленное множество минаретов. В Константинополе мы пробыли дней пять и за это время обошли почти все святые места. Сильное, неотразимое впечатление на меня произвел храм св. Софии. Здесь я плакал, но слезы мои были не чувство всеподавляющего страха, а величия сего святилища Господня. Я не скорбел, как другие, что этот храм стал мечетью, я с этим в душе своей мирился, зная то, что и мечеть есть храм Божий. Был я в турецких монастырях, где иногда как-то странно вертятся дервиши.
Наконец, наступил день нашего выезда из Константинополя прямо на святой Афон. Ехали мы приблизительно несколько дней. Когда же стали подъезжать к Афону, то я не мог равнодушно смотреть на это святое место: ноги мои дрожали, сердце билось.
«Боже мой, — заговорил я сам себе, — вот где живут святые! Вот где Царица Небесная появляется своим праведникам, вот где почивает благодать Божия!» Появились на нашем пароходе афонские монахи, стали нас приглашать к себе, и я с другими паломниками отправился в Пантелеймоновский монастырь. Здесь мне не понравилось: монахи как-то холодны в своих между собой отношениях, и это мне в них не нравилось. Из этого монастыря я отправился в Андреевский монастырь, и вот здесь мне очень понравилось.
Андреевцы почему-то обратили на меня свое внимание, особенно иеросхимонах Мартиниан, потом Иезекииль, Варнава и сам настоятель великий Феоктист. Этот Феоктист был величайшим монахом в своей святой обители. Он был необыкновенно кроток и смирен сердцем. До него и после него равного ему не было такого смиреннейшего настоятеля в сей святой обители. Этот-то о. Феоктист и принял меня в свою обитель. Меня почему-то в этой обители называли японцем. Я предполагаю, что меня так называли потому, что у меня губы как-то выделялись, и по ним мне дали афонцы такую странную кличку. Когда я стал уже числиться послушником сей святой обители, когда стал исполнять клиросное послушание, то душа моя как будто бы чем-то стала наполняться светлым, добрым и святым. Я ежедневно ходил к о. Мартиниану и открывал ему все свои мысли и чувства. Молитва в то время очень сильна была во мне. Каждый день я как будто бы развивался, рос, совершенствовался, расширялся. Скоро я заболел ангиной, меня несколько раз сам настоятель о. Феоктист посещал больного. Через две недели я поправился. Скоро после этого меня отправили в Константинополь. Здесь я был некоторое время поваром и в то же время учился греческому языку.
В Константинополе монахи тоже меня любили и любили горячо. Здесь я часто ходил по разным святым местам. Один раз я отправился в Софию, и там я встретил кучку мулл. Эти муллы обступили меня, и два из них хорошо говорили по-русски. Я вступил с ними в дружескую беседу. Они мне сказали, что здесь, в сем храме, когда-то гремели речи Иоанна Златоуста. Эти слова турецкого муллы так на меня сильно подействовали, что я с этого самого момента почувствовал какое-то тяготение к проповедничеству. Я горячо просил Господа Бога и Царицу Небесную, чтобы и я был проповедником. С этого времени я начал читать Священное Писание, святоотеческие книги, творения отцов Церкви. Более других отцов я любил Оригена, Василия Великого.
В Константинополе я прожил несколько лет. Затем вернулся опять на Афон и здесь опять стал предаваться подвижнической жизни. В этот раз под день Святой Троицы, после долгого стояния церковной службы, я уснул и вижу очень реальный сон. Вот перед моими взорами развертывается какой-то дивный сад, изрытый грядами, и эти гряды, подобно волнам, одна за другой тянутся цепью. На этих грядах растут дивные цветы, а между ними ходят мужчина и женщина, и они к каждому цветку подходят и, наклоняясь над ним, поют: «Рай мой, рай мой». Я проснулся и тут почувствовал, что я где-то был. С этой минуты я трое суток не ел и не пил, а только от какой-то великой внутренней радости беспрестанно плакал. Отец Мартиниан, видя меня в таком состоянии духа, радовался. Жизнь моя на Афоне, при всех моих стремлениях к духовному подвигу, встречала со вне большие соблазны. Они проявлялись больше всего в том, что афонцы больше, чем самого дьявола, боятся национального безразличия. Для малоросса великоросс — сатана, а для великоросса малоросс — демон. Кроме сего, все они, еще того хуже, разделяются на губернское, уездное землячество. Другой соблазн — построенные в больших городах подворья, где монахи совершенно погибают. Третий соблазн, самый коренной — деньги, деньги и деньги! Я не раз с некоторыми монахами пытался откровенно беседовать, но я всегда уступал им, потому что они приходили в озлобление. Больших подвижников я не видел там. Если и приходилось с некоторыми подвижниками сближаться, то я скоро разочаровывался в них, разочаровывался потому, что у них, как я замечал, при всех их духовных подвигах, отсутствовала нравственная сторона в жизни, особенно это было заметно по отношению к ближним. Так я прожил некоторое время на Афоне. После сего моего пребывания там настоятель решил отправить меня в Петроград, тоже на подворье. В Петрограде случайно я познакомился со старшим келейником митрополита Палладия. Он меня представил митрополиту, а последний на свой счет отправил меня в Сибирь в Томск к епископу Макарию, а еп. Макарий к начальнику Алтайской духовной миссии.
Из Петрограда я не сразу поехал в Сибирь, но сначала посетил родителей, затем снова вернулся в Петроград и уже после этого отправился в Томск. Родители мои были очень и очень обрадованы моим приездом. Они уже не знали, что и думать обо мне. Когда я первое письмо послал им с Афона, и они его получили, то, говорили они мне, все-таки веры у них не было, что я на Афоне. Не поверил этому и нашего села священник. И вот Бог привел свидеться... Мама моя очень хотела, чтобы я побывал у, как звали одного крестьянина, почитаемого в окрестности за святого и прозорливого. К нему в П. съезжалось и приходило множество народа, и ни с кого он не брал денег. Я отнесся к предложению мамы с каким-то недоверием, но заинтересовался и на следующий же день с одним крестьянином отправился к этому дивному Максиму. Как только я вступил в его избушку, я увидел что-то поразительное. Максим стоял на коленях и, подняв свои руки к небу, кричал: «Откуда ко мне пришел сибирский миссионер! Ах, Боже мой, сибирский миссионер!. Дивны дела Божий! Степан, Степан Пермский пришел ко мне! Боже мой, Боже мой, да, Степан Пермский пришел ко мне!» Максим поднялся, бросился ко мне и начал целовать меня. Затем быстро, как юродивый, он выбежал из своей избы и, как кошка, полез на чердак, схватил целое беремя каких-то кольев, обрубленных деревцев, веток, пней и внес в избу. Все это он почему-то называл литерами. «Вот это есть литеры, — начал часто-часто говорить Максим, объясняя мне свою мудрость. — Эти литеры есть тоже мудрость, да, мудрость». Он взял один кол, который с одного конца был как-то загнут и имел форму серпа, а другой конец имел форму ножа или меча. И это не было искусственно сделано, а являлось делом самой природы. И вот дядя Максим берет этот кол и начинает мне объяснять. «Это есть, — говорил он, — литеры, по которым я читаю премудрость Божию. Вот смотри, с одного конца серп. Это, батюшка мой, указывает на то, что будут времена, когда мечи перекуют на серпы. Ах, дивны дела Божий! Скоро будет время, когда войны не будет, да, не будет. О, Господи Боже мой, дивны дела Твои... Я воробей, а моя мать — синичка, и мое дело — не робей. Дивны дела Божий, война должна исчезнуть с лица земли (Максим плачет). Будет время, когда никто не будет воевать (целиком приводит место Исайи пророка)». Затем берет другой кол, третий, и все колья отличны друг от друга, и пользуясь этим их отличием, Максим по ним объясняет Священное Писание или предсказывает какие-либо важные события. Я же, когда смотрел на него и слушал, что он говорит, пришел в такое умиленное состояние духа, что, точно как ребенок, плакал неутешными слезами. Мне было в то же время очень радостно. «Слушай, батюшка, — обратился ко мне Максим, — в то время, когда Господь тебя поставит делать дивные дела Свои, тогда помяни и меня грешного. Ты знаешь, здесь прославится имя Христа, здесь будет место свято. Ах, Боже мой, Боже мой! Вот беда, нет теперь христиан; вот горе, все почти стали врагами Христовыми (сам плачет). Евангелие поругано, да, поругано. А ты, батюшка, будешь миссионером и будешь в Сибири. Туда и родителей своих переведешь. Ах, дивны дела Божий! Говорят, что я сумасшедший, а ведь без сумасшествия, батюшка, не взойдешь в Царство-то Божие. Я, батюшка (падает сам на колени и молится), видел в лесу Святую Троицу в виде трех световидных, подобно солнцу, воинов, препоясанных солнечными лучами. Дивны дела Твои, Господи! (Максим рыдает). Вчера я видел Петра и Павла, Апостолов Христовых. Они, батюшка, они открыли о тебе мне, и вот ты, батюшка, будешь их дело делать. Господи, Господи, Господи! Дело Божие вручается человеку». Максим становится передо мной на колени, а я упал перед ним, как перед самим Господом, и мы оба подняли такой плач, как будто над каким-нибудь только что умершим близким другом. А толпа, пришедшая к Максиму, при виде нас плачущих, и сама пришла в сильное рыдание.