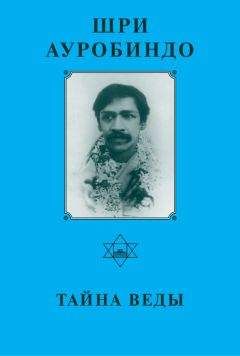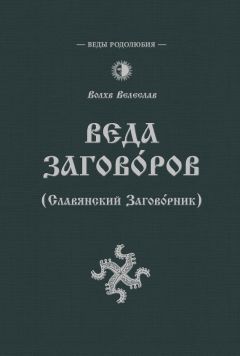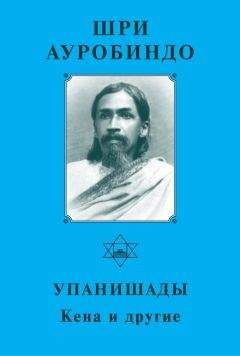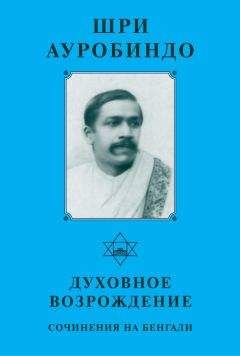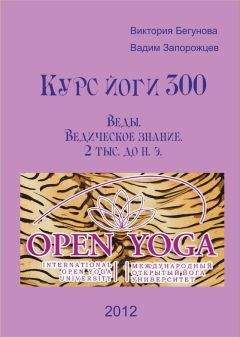Гимны, действительно, обладают завершенной метрической формой, изысканностью и искусностью исполнения, большим стилевым разнообразием и поэтической неповторимостью; это не произведения грубых, диких и примитивных ремесленников, но живое дыхание возвышенного и осознанного Искусства, созидающего свои творения в мощном, но хорошо направляемом движении самосозерцающего вдохновения. И вместе с тем, все эти высокие таланты нарочито осуществляются в рамках одной неизменной схемы и постоянно одними и теми же инструментами. Ибо искусство выражения было для риши только средством, а не целью; они были сосредоточены, главным образом, на сугубо практической, почти утилитарной, в самом высоком смысле этого слова, цели. Гимн был средством духовного прогресса и для самого риши, сложившего его, и для других. Он поднимался из его души, становился силой его ума, способом его самовыражения в некий важнейший или даже критический момент внутренней истории его жизни. Гимн помогал ему выразить в себе бога, одолеть пожирателя, носителя зла; он превращался в оружие в руках арийского борца за совершенство, он сверкал как молния Индры, поражая Сокрывателя на горных склонах, Волка на тропе, Грабителя у водных потоков.
Неизменное постоянство ведийской мысли в сочетании с ее глубиной, богатством и тонкостью наводит на некоторые интересные размышления. Ибо мы можем обоснованно утверждать, что столь устоявшиеся форма и содержание едва ли могли сложиться на начальных этапах зарождения идеи и психологического опыта, не могли они появиться и даже на ранних этапах их развития и становления. Отсюда мы можем заключить, что существующая в нашем распоряжении Самхита являет собой завершение некоего периода, а не его начало и даже не одну из его последующих стадий. Возможно даже, что древнейшие гимны есть сравнительно позднее развитие или вариант более древнего[1] поэтического евангелия, изложенного в более свободных и гибких формах еще более раннего языка. Или возможно, что все это многотомное собрание изречений есть всего лишь выборка, сделанная Вьясой из еще более богатого арийского устного наследия. Выборка – по преданию сделанная Кришной Двайпаяной (Островным), великим древним мудрецом, превосходным составителем (Вьясой), чей лик был обращен к начинающемуся Железному Веку, к столетиям сгущающихся сумерек и окончательной тьмы, – может быть, есть последнее завещание Веков Интуиции, ясных Зорь Праотцев, предназначенное потомкам, роду человеческому, уже нисходящему в духе на уровни более низкие, к достижениям более легким и прочным – прочным, возможно, лишь на первый взгляд, – относящимся к физической жизни, интеллекту и логическому разуму.
Но это всего лишь домыслы и предположения. Уверенность есть только в том, что дальнейшие события полностью подтвердили старое предание о постепенном упадке и утрате Веды как закона человеческого цикла. Этот упадок уже зашел далеко, прежде чем начался следующий великий период индийской духовности, период Веданты, в который были сделаны попытки сохранить или восстановить то, что еще было возможно, из древнего знания. Едва ли это могло быть иначе. Ибо система ведийских мистиков основывалась на опыте, труднодоступном обычному человеку, и развивалась при помощи способностей, которые у большинства из нас рудиментарны и едва сформированы, а если же и просыпаются, то неоднородны и непостоянны в своем действии. Когда прошла первая устремленность к поиску истины, неизбежно должны были наступить времена истощения и ослабления, а в эти периоды старые истины частично утрачиваются. Будучи же однажды утраченными, они не могут быть с легкостью восстановлены одним лишь тщательным изучением смысла древних гимнов, ибо смысл этот скрывался за языком нарочито двусмысленным.
Недоступный нашему разумению язык можно правильно понять, подобрав к нему ключ; но язык нарочито двусмысленный хранит свои секреты гораздо более упорно и успешно, ибо он полон ловушек и указаний, вводящих в заблуждение. Вот почему, когда индийская мысль вновь обратилась к исследованию смысла Веды, задача оказалась трудной, а успеха удалось добиться лишь отчасти. Один источник света все еще существовал: это традиционное знание, передававшееся из поколения в поколение теми, кто заучивал наизусть и толковал ведийские тексты или совершал ведийские обряды, – две эти функции были изначально едины, ибо в древние времена жрец был одновременно и учителем, и провидцем. Но яркость света уже померкла. Даже известные жрецы-пурохиты совершали обряды, недостаточно понимая силу и смысл произносимых ими священных слов. Ибо материальные аспекты ведийского культа образовали своего рода плотный покров на сокровенном знании, который теперь заслонял то, что некогда был призван охранять. Веда уже превратилась в собрание мифов и ритуалов. Символический ритуал начал терять силу, свет покинул мистическое иносказание, и осталась лишь внешняя оболочка, гротескная и наивная по форме.
Брахманы и Упанишады есть письменное свидетельство мощного возрождения, для которого этот священный текст и ритуал стали опорой и отправной точкой обновленного духовного мышления и опыта. У этого движения было два взаимодополняющих аспекта: первый – сохранение формы, второй – выявление души Веды. Первый аспект представлен Брахманами[2] , второй – Упанишадами.
В Брахманах предпринята попытка зафиксировать и сохранить мельчайшие подробности ведийских ритуалов, условия, обеспечивающие их материальную действенность, символический смысл и назначение их отдельных частей, движения и предметы, необходимые для их совершения, значение текстов, читаемых во время обряда, общую суть туманных аллюзий, память о древних мифах и традициях. Многие легенды, очевидно, появились позднее гимнов, они сочинялись для объяснения тех отрывков, смысл которых был уже непонятен; другие могли быть частью первоначального мифа и преданиями, которыми пользовались авторы древних символов, или же воспоминаниями о действительных исторических обстоятельствах, связанных с созданием гимнов. Устная традиция это всегда свет, который ослепляет; новая символика, действующая на основе полузабытой старой, скорее подминает ее под себя, чем проясняет; поэтому, хоть Брахманы и изобилуют интересными намеками, они весьма мало помогают нашему исследованию; так же как они не являются надежными проводниками к значению отдельных текстов, когда стараются дать им точное дословное истолкование.
Риши Упанишад следовали другим путем. Они пытались восстановить утраченное или стертое знание посредством духовной практики и опыта, употребляя тексты древних мантр как основу или авторитетный источник для собственных интуитивных прозрений; или же рассматривали ведийское Слово как семя мысли и видения, посредством которого они восстанавливали старые истины в новых формах. То, что они обнаруживали, они выражали в других терминах, более созвучных времени, в котором жили. В известном смысле их отношение к текстам не было беспристрастным, ими руководило не стремление скрупулезного ученого добраться до точного назначения слов и точной мысли, передаваемой фразой. Они искали вещи более возвышенные, нежели изреченная истина, и использовали слова только как знаки озарения, к которому они стремились. Они не знали, или не принимали во внимание, этимологическое значение и часто прибегали к методу символического толкования звуков слова, в чем нам очень трудно следовать за ними. По этой причине, хотя значение Упанишад неоценимо за тот свет, который они проливают на основные идеи и психологическую систему древних риши, они столь же мало, как и Брахманы, помогают нам определить точный смысл цитируемых в них текстов. Их задача заключалась в создании Веданты, а не в интерпретации Веды.
Ибо результатом этого великого движения стало возникновение новой и дольше сохраняющей силу философии и духовной традиции; Веданта стала кульминацией Вед. И она заключала в себе две мощные тенденции, которые действовали на разрушение древней ведийской мысли и культуры. Во-первых, в Веданте прослеживается тенденция все более полного подчинения внешнего ритуала, а также материальной направленности мантр и жертвоприношений чисто духовной цели и назначению. При этом было смещено и нарушено равновесие, исчез синтез внешнего и внутреннего, материальной и духовной жизни, оберегавшийся древними мистиками. И установилось новое равновесие, возник новый синтез, в конечном счете тяготеющий к аскетизму и отречению от мира, просуществовавший до той поры, пока он в свою очередь не был смещен и нарушен буддийской проповедью, усилившей его же собственные тенденции. Жертвоприношение, символический ритуал, все более превращался в бесполезный пережиток прошлого, даже в бремя; однако, как это часто случается, именно в силу того, что оно превратилось в механистичное и малоэффективное действо, та часть умов общества, которая все еще за него держалась, преувеличила значимость наиболее внешнего его элемента и практически иррационально следила за соблюдением всех его деталей. Возникло четкое практическое разделение между Ведой и Ведантой – хотя никогда полностью не признававшееся в теоретии, – разделение, смысл которого укладывается в высказывание: «Веда для жрецов, Веданта для мудрецов».