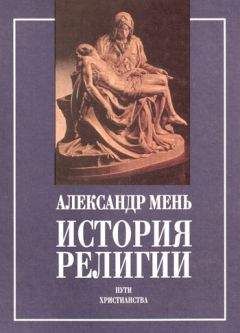Между тем Гаутама со свитой желтых ряс уже приблизился к родному городу и расположился в роще. Узнав об этом, Шуддходана не знал, как ему поступить. Отцовское чувство влекло его немедленно поспешить навстречу блудному сыну, но, с другой стороны, гордость раджи и неприязнь к монахам, в которых он видел источник своего несчастья, останавливали его. В конце концов, отец победил в нем царя, и он пошел в рощу искать Сиддхарту. Когда же он и свита увидели царевича в нищенском рубище, с обритой головой, от печали и негодования они не могли произнести ни слова.
Видя, что его облик смутил всех, Будда, как гласит предание, проявил свое сверхъестественное могущество. На глазах у отца и изумленной толпы он поднялся на воздух; лицо его стало поразительным образом меняться; из груди его вырвалось пламя, а потом потекла вода. Говорят даже, что он раздирал свое тело на части и мгновенно вновь соединял его. Присутствующие онемели от изумления, но тем не менее эти чудеса подействовали на них недостаточно. Ледяная стена между отцом и сыном оставалась. Гаутама был сдержан и довольно сухо поговорил с отцом. Вскоре растерянный раджа удалился. Наступила ночь, и монахам пришлось ночевать под открытым небом.
Так единственный раз оккультные силы Гаутамы не возымели должного действия. В прочих же случаях они оказывали ему большую помощь в проповеди. Вообще нужно отметить, что чудеса, совершаемые Буддой, какой бы процент их мы ни относили к легенде, как правило, не были чудесами милосердия подобно евангельским. Это были чудеса-аргументы, целью которых было воздействие на окружающих.
Наступило утро, и Гаутама как ни в чем не бывало отправился в город и, по обыкновению, стал в молчании, опустив глаза, собирать милостыню. Когда слух об этом достиг Шуддходаны, в доме начался переполох. Гордость шакийского раджи была уязвлена, он поспешил найти сына и осыпал его упреками. «Неужели у нас не найдется пищи для твоих монахов? — кричал он. — Не срами нашего славного царского рода! В нашем роду не было никогда нищих!» Но Гаутама невозмутимо ответил, что он более ценит не кровное, а духовное родство и что его великие предшественники — будды — странствовали, живя подаянием. Однако, видя, что отец смягчился, он дал согласие вступить под кров родного дома.
Здесь его ждало новое испытание. Едва он вошел, как навстречу выбежала его жена Яшодхара, которую он покинул много лет назад. Увидев мужа в одежде нищего скитальца, она бросилась к его ногам, заливаясь слезами. Во время этой сцены отец оплакивал горькую судьбу невестки и рассказывал, что с самого дня ухода Сиддхарты она была ему верна и вела почти подвижнический образ жизни. Но мудреца, свободного ото всех человеческих привязанностей, было невозможно поколебать, и даже если в душе его и шевельнулось что-то прежнее, он сумел скрыть это и долго беседовал с родными о бесполезности и ничтожности всего, о благе отрешенности, о единственном пути спасения. Он утешал жену, рассказывая об их прошлых воплощениях, объясняя этим своим излюбленным способом смысл своей и ее судьбы.
Но Яшодхара еще не теряла надежды. Догадываясь, что узы, связывавшие ее с мужем, порвались, она прибегла к помощи другого сильного средства. И она не ошиблась. Когда к Гаутаме подошел мальчик со словами: «Отец, дай мне наследство!», в иссушенном аскете с непобедимой силой вспыхнули угасшие чувства. Пред ним стоял его родной сын Рахула, тот, чье рождение он назвал некогда «новыми цепями». Совершенному, очевидно, стоило Больших усилий овладеть собой; он знал, что скоро должен покинуть Капилавасту и что, едва увидев сына, надолго, а может быть, навсегда разлучится с ним. А эти «цепи» внезапно оказались прочнее, чем думал мудрец. Впрочем, у него оставалась последняя возможность, и он прибегнул к ней. Он стал рисовать Рахуле прелести вольной страннической жизни, убеждал его отправиться с ним, и мальчик, который так долго был лишен отца и теперь обрел его, с радостью согласился стать юным бхикшу. Так, ко всеобщему изумлению, в Сангху впервые вступило дитя [3].
Однако это вступление, как мы видим, произошло скорее всего не потому, что, по мнению Будды, человеку следует стремиться к бесстрастию уже в детском возрасте, а потому, что сам учитель не смог преодолеть горячего желания видеть своего сына при себе.
В городе этот факт вызвал недовольство. Сын раджи не только ушел сам, но и похитил наследника. Чтобы успокоить отца и горожан. Будда обещал, что отныне в орден будут принимать детей лишь с согласия родителей.
* * *
Посещение Капилавасту принесло Гаутаме немало последователей. К тому времени вокруг него создалась избранная свита, состоявшая из шакиев. Некоторые из них были его близкими родственниками. Двое из них сыграли заметную роль в жизни Будды. Это были его двоюродные братья Ананда и Девадатта. О первом мы уже упоминали, он в течение многих лет с влюбленной преданностью служил учителю, а второй — человек незаурядных дарований — внес в орден струю недоверия и зависти. Согласно преданию, еще в юности они с Сиддхартой во всем были соперниками. Девадатту постоянно терзала мысль о превосходстве брата. Рассказывали, что некогда он был претендентом на руку Яшодхары и что Сиддхарта победил его на юношеских состязаниях. Это старая как мир, вечно повторяющаяся история Каина и Авеля, история «двойников», связанных роковыми цепями ненависти и восхищения, зависти и любви.
Почему Девадатта вступил в Сангху? Вряд ли он поддался воздействию проповеди брата. Скорее всего на этот шаг его толкнула завистливая ревность к популярности Гаутамы. Как покажет дальнейший ход событий, мечтой его стало затмить Сиддхарту и возглавить начатое им движение.
Посещение родины внесло одно важное изменение в строй ордена. Среди многочисленных людей, увлеченных проповедью великого соотечественника, было немало женщин. Некоторые из них захотели вести подвижнический образ жизни в лоне ордена. Престарелая тетка Гаутамы, его воспитательница, первая заговорила об этом. Совершенный сначала категорически отверг эту идею. Он заявил, что вступление женщин в Сангху принесет ей гибель.
Надо отметить, что Будда целиком разделял отношение своих современников к женщинам. Некоторые историки утверждали даже, что из всех религий женщина более всего унижена в буддизме. Нельзя сказать, что Будда считал женщину качественно низшим существом, но он видел в ней страшную опасность своему учению. Женщина, которая, в отличие от мужчины, сохранила тесную связь с природой, у которой инстинкты и эмоции, как правило, играют большую роль, чем рассудок, не могла быть благодарным материалом для архатства. Кроме того, она служила как бы вечным соблазном, напоминанием о жизни, о природе, отвлекающим аскета от его сверхчеловеческого пути. Поэтому Будда запрещал монахам глядеть на женщин и разговаривать с ними. Даже если бхикшу захочет просветить женщину истиной, но будет беседовать с ней наедине — он тяжко согрешит [4].
Будда не жалел никаких красок для того, чтобы разоблачить обаяние женской красоты. Почти с циничным злорадством говорил он о теле, «полном воды и грязных выделений». Он живописал немощи и уродство отталкивающих старух, чтобы доказать обманчивую мимолетность телесного расцвета. В погоне за обнаженной правдой он готов был перейти всякие границы, мысленно копаясь в разлагающемся трупе и восклицая: «Куда исчезла сияющая красота?»
Все ходячие суждения и пословицы, унижающие женщин, будут использованы в буддизме. Но главное, что ненавидел Будда в женщинах, как и его далекий потомок Шопенгауэр, — это то, что они могут служить препятствием в деле освобождения. «Я не знаю другого образа, братья, который бы так опутывал сердце мужчины, как образ женщины». «Не верь дарящей наслаждение, — говорится в одной притче, — не верь клянущейся в любви! Как истина их ложь звучит, обман в движеньях их, во взорах, в улыбке, в ласке и речах. Они сокрытые убийцы…всепожирающий огонь, всеувлекающий поток, неуловимы, как ветер, неисчерпаемы, как море, продажны, хитры, лживы» [5].
Даже после того как Будда уступил настояниям и разрешил женскую группу в ордене, монахини по уставу Сангхи были поставлены в самое жалкое и зависимое от мужчин положение.
В своем отношении к женщинам Гаутама не был одинок; его взгляды разделяли и Сократ, и Платон. В Греции той эпохи женщин приучали «меньше говорить, слышать и видеть». (Какой разительный контраст с Тем, Кто сказал: «Мария избрала благую часть, и она не отнимется от нее»!)
Женщины не воздали Сангхе той же монетой. Напротив, они стремились к монашеству со всей энергией, невзирая на протесты мужчин. Они помогали и служили ордену, чем могли. Именно женщины прежде всего протягивали руку с подаянием для побиравшихся бхикшу; их заботами и трудами устраивались убежища для монахов. И Будда благосклонно принимал их служение; в «Марфе» его монахи весьма и весьма нуждались.