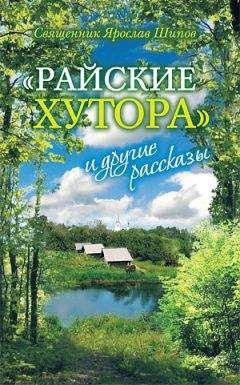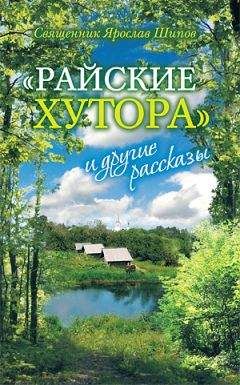Летом, в каникулы, он жил с родителями на барже, помогая в меру сил и умения. Шкипер, а по судовому расписанию — баржевый, опускал и поднимал якоря, отвечал за швартовку, подруливание в сложных местах: у причалов, мостов и шлюзов, вечером зажигал на мачте огни. А еще приходилось то и дело ремонтировать что‑нибудь, подкрашивать, драить, смазывать — Николушка во всех этих делах и участвовал. Мать стирала, готовила еду, но при необходимости могла не хуже отца управиться с якорями или швартовкой.
Последние школьные каникулы он, как обычно, проводил в плавании: из Ярославля вниз по реке везли автомобильные шины, из Астрахани вверх — арбузы.
1
В Астрахани — хорошо: только станет баржа под погрузку, появляются люди с черной икрой. Отец повыбирает, повыбирает, наконец выберет: возьмет литровую банку «наисвежайшей зернистой», поставит на стол и протягивает столовую ложку: «Держи, Коль, икру надо есть ложкой». Ну, понятное дело, помидоры еще, арбузы, фруктов всяких полно… А уж рыбы сколько! Хоть на рейде, хоть у причала — Колька прямо с борта лавливал и сазанов, и сомов, и жерехов, и окуней, и судаков, и щук… Про воблу говорить нечего — ее вялили сотнями. До чего же хорошо в Астрахани! Было… тогда… Впрочем, и сейчас еще неплохо.
Загрузили баржу арбузами и отвели на рейд — ждать второе суденышко: их должны были буксировать парой. Коля с самого утра рыбачил и успел уже много чего наловить. Тут подошел пассажирский дизель-электроход из Москвы: ожидая, когда освободится занятый кем‑то причал, он тихонько подрабатывал винтом и стоял совсем рядом. Это, конечно, мешало забрасывать снасти, и Колька прервал занятие. Поворошил землю в старом ведерке — посмотрел, сколько осталось червей: в Астрахани червяков нет, приходилось возить из Ярославля. Решил, что наутро хватит, а больше и не надо было — днем следовало отправляться.
От нечего делать поднялся по лесенке на крышу надстройки, где был огромный штурвал, управлявший рулем, положил руки на этот штурвал и стал бесцельно рассматривать дальний рейд, причалы, набережную… Оборотился к дизель — электроходу, который никак не хотел уходить, увидел капитана в рубке, двух матросов, укладывавших канат на нижней палубе… За окном одной из кают светлело лицо девушки… Он не успел еще разглядеть это лицо, но замер и перестал дышать…
Он даже не подозревал, что мгновение, пролетевшее только что, перевернуло всю его жизнь.
Потом девушка выбежала на палубу.
— Как тебя зовут? — крикнул он.
— Маша, а тебя?
Он назвался. И тут пассажирский начал набирать ход.
— Как найти?
Девушка несколько раз прокричала номер, Коля запомнил.
Зимой они общались только по телефону, и то редко, когда Коле удавалось накопить денег. Летом, к полной неожиданности для родителей, он поехал поступать вовсе не в мореходку, а в музыкальное училище, — он поехал в Москву. И поступил. Маша отдыхала с матерью где‑то на юге и вернулась только к первому сентября. Тут и у него, и у нее начались занятия — а она училась в десятом классе, — и поначалу встречи получались краткими, на улице. Наконец Коля был принят в доме и представлен матери — отец давно завел другую семью и не появлялся.
Теперь все свободное время он проводил либо в гостях, либо, ожидая ее из школы, на трамвайной остановке. Обнаружилось, что у Маши есть и другие поклонники, а среди них — вполне состоявшиеся молодые люди с профессией и зарплатой, а не с жалкой стипендией.
— Ты волнуешься из‑за них? — как‑то спросила Маша.
Коля кивнул.
— Не волнуйся, — спокойно сказала она.
Однако он продолжал страдать. И не столько из-за поклонников, сколько из‑за себя самого: с каждым днем собственный провинциализм и необразованность становились ему все очевиднее. Он понимал, что там, в Астрахани, на Волге, он был в своей стихии и, вероятно, произвел на девушку какое‑то впечатление, а здесь он превратился в экзотику — деревенский трубач. Машина мама так и называла его — Трубачом. Она занималась литературным переводом с французского, была хороша собой, жаждала замужества, и среди ее гостей то и дело оказывались знаменитости.
Отчуждение нарастало, и однажды он с грустью произнес:
— Ты, кажется, меня совсем разлюбила.
— Нет, — отвечала Маша словно в раздумье, — я люблю тебя, — но в голосе ее слышалась недоговоренность. Лишь спустя годы он понял, что это было предчувствие несбыточности.
Следующим летом, когда Маша должна была поступать в университет, Николай со студенческим оркестром отправился на гастроли: он хотел заработать деньжат, чтобы приодеться и выглядеть посолиднее. И началось: перелеты, переезды, концерты, репетиции — то в гостиничном номере телефона нет, то есть, да разница во времени такова, что в Москве ночь глубокая. Да тут еще флейтистка на соседнем стуле — когда плечиком, словно невзначай, прикоснется, когда коленкой. В общем, долго не звонил он в Москву. А позвонил — никто не отвечает. И в другой раз, и в третий…
Вернулся Николай — а в квартире Машиной никого нет: свет по вечерам не зажигается. Потерялась Маша. Тут, правда, одна пианистка предложила подготовить концертную программу для гобоя и фортепиано.
Полгода готовили, можно было давать концерт, однако появилась вокалистка — меццо — сопрано, из‑за которой инструментальный дуэт вмиг рассорился.
Однажды вечером свет в Машиных окнах зажегся. Николай радостно подбежал к дверям, но оказалось, что там поселились чужие люди. Они сообщили только, что квартирный обмен получился сложным, многоступенчатым и что прежняя хозяйка, кажется, вышла замуж за овдовевшего дипломата и уехала в неведомую страну.
Потом Николай окончил консерваторию, играл в хороших оркестрах, стал лауреатом конкурса.
Он был дважды женат, разводился и век свой доживал в одиночестве. Оборачиваясь в прошлое, с удивлением убеждался, что женщины не оставили в его душе никакого следа, — совсем никакого. Там была только Маша. Единственная. Меж тем они и поцеловались‑то по — взрослому лишь раз. Был зимний вечер, они стояли в сквере у Машиного дома, под фонарем, снег падал тихими хлопьями… Их бросило друг к другу с такой силой, что губы — в кровь. «Как еще зубы не повыбивали», — смеялись они потом над своей неумелостью.
И ему верилось, что она непременно жива, и все‑то у нее слава Богу: муж, дети, внуки… И все они здоровы и благополучны. И от этой мысли ему становилось радостно и тепло, и он улыбался. Но временами подступала боль: ах, если бы встретиться с ней, пусть хоть ненадолго — на мгновение… Ему казалось, что вся прошедшая жизнь обрела бы тогда какую‑то упорядоченность, завершенность, какой‑то смысл. Он ощущал себя раздерганным, расстроенным инструментом: одна струна настраивалась под одного человека, другая — под другого, третья — под третьего… А тут, глядишь, осталось бы только то, что связано с Машей, все прочие струны можно было бы выкинуть. Пусть не арфа, пусть балалайка, зато — с чистым голосом. И вместо омерзительного дребезжания он, быть может, услышал бы мелодию хоть и простую, но ласковую, красивую.
Если бы встретиться… Хоть на миг…
От Сретенских ворот до Хорошевского шоссе путь неблизкий — шагай да шагай через ночь. На Рождественском бульваре Сашку догоняет поливалка: он прижимается к стене дома, чтобы не окатило водой, но машина сбавляет ход, а потом и вовсе останавливается. Дотянувшись до правой двери, водитель открывает ее и, почти лежа на сиденье, спрашивает:
— Далеко?
— Далеко, — машет рукою Сашка.
— Залезай, до Пушкинской могу довести, — и, когда Сашка садится, объясняет: — Мне там разворачиваться в обратную сторону.
Машина трогается, вода бьет по асфальту и, ударяясь в бордюр, взмывает кверху. На бульварах ни машин, ни пешеходов — ночь…
— Провожал? — спрашивает водитель — человек немолодой и, похоже, приветливый.
— Провожал.
— Поцеловать‑то позволила?
— Позволила, — улыбается Сашка.
— Дело хорошее, — признает водитель. — Ну а так… еще чего‑нибудь перепало?
— Да нет вроде бы…
— Совсем ничего?.. Ну хоть по мелочи — приобнять там… и все такое…
— По мелочи перепало… чуть — чуть.
— Уже неплохо, — оценивает водитель и вздыхает.
На Пушкинской они расстаются. Но Сашка недолго бредет пешком: его подбирает продуктовый автофургон. За лобовым стеклом портрет Гагарина, недавно слетавшего в космос.
— Ты ходил встречать Гагарина? — спрашивает водитель.
— Ходил, — отвечает Сашка.
— Здорово было!
— Здорово! — соглашается Сашка.
Доезжают до Белорусского. Дальше — по шпалам в сторону «Беговой».
Несколько окон депо освещены, над ними вывеска «Столовая». Сашка вспоминает, что голоден и что у него сохранился рубль монеткой. Вечером он водил Аленку в кафе, заказал два бокала шампанского, два мороженых и два кофе — на все, как и предполагалось, ушло три рубля, а четвертый — резервный — остался. Он жалеет, что вспомнил про денежку поздно, ведь за рубль можно было доехать от Белорусского на такси, а теперь — далеко ушел, не возвращаться же.