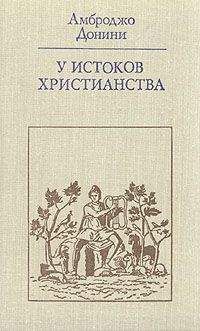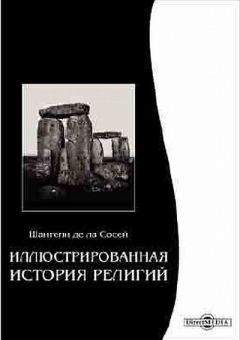На Востоке беспокойство масс при Константине не нашло единого центра кристаллизации в экономической и социальной сферах, тем более что и условия жизни населения, особенно в Малой Азии, не были еще столь же трагическими, как в западных провинциях. Нет все же сомнения, что за арианской ересью, возникшей именно на Востоке, скрывались и этническая дифференциация населения, и возникавшие в народе центростремительные силы, в ней оживали также и соответствующие религиозные идеи, чуждые христианской тематике. Учение Ария, который отрицал субстанциальную божественность Христа, казалось более приемлемым для языческой среды, находившейся под влиянием монотеизма неоплатоников.
Константин не придавал большого значения чисто теологическим дискуссиям. Он боялся, однако, как бы какой-либо разлад в лоне христианских общин не стал угрожать тому единству, которое он считал необходимым для дальнейшего осуществления его политики восстановления государства и защиты неприкосновенности границ. И потому после тщетных попыток примирения он решился созвать собрание епископов уже не из части империи, а со всей ее территории: вселенский, то есть «универсальный», собор, решения которого имели бы значение закона, одобренного самодержцем.
Заседания собора были открыты императором 20 мая 325 г. в Никее, в Вифинии. На нем присутствовало несколько более 300 епископов, все почти без исключения с Востока. Садого Сильвестра, который руководил римской церковью большую часть царствования Константина (он был избран епископом 31 декабря 314 г. и умер 31 декабря 335 г.), не пригласили даже для консультаций, и он был представлен лишь двумя пресвитерами. Его влияние, впрочем, и не распространялось за пределы Италии., Никейский собор, который не сумел решить вопрос об арианстве, стал, однако, свидетелем упрочения принципа государственного вмешательства в религиозную сферу. Константину не был неприятен присвоенный ему придворными титул — «епископ церкви по внешним делам». Это были, однако, вопросы, которые касались не только внешних сторон вероучения, но и всей идеологической и институциональной жизни церкви. Их решение и послужило разработке мер принуждения по отношению к меньшинствам или группам несогласных, а также стало толчком к новым преследованиям во имя новой религии.
Нарождалась эпоха, которую еще сегодня принято называть эрой Константина в двойном смысле слова: слияние религиозного и политического порядка и сведение церковной организации к роли бастиона сил социальной консервации и политического господства. Апокалиптические чаяния первых времен отныне были отброшены за грань официальной религиозности, которая не допускает вольнодумного видения общественной жизни, ускользающего от контроля иерархии. Для Евсевия Кесарийского «царство божие» реализуется в роскоши и могуществе «царства Константина». Ожидание нового мира было банализиро-вано обещанием посмертной компенсации за несправедливости и повседневные страдания в этом мире.
Последние мечтатели, мыслившие о крушении общества, основанного на безудержной эксплуатации огромного большинства населения, видели себя обреченными на изоляцию или на раскольничество. Эта особенность христианства и станет одной из характерных черт реальной истории христианства по настоящий день.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО АСКЕТИЗМА И МОНАШЕСТВА
Уже тогда становилось все труднее отделить события гражданской истории от религиозной. Они отныне тяготели к слиянию или наслоению друг на друга, тогда как первые три столетия истории христианства различие между; ними было очевидным. Подлинная история христианства, чтобы не растворять ее в слишком широком контексте, с этого времени должна с особым акцентом обращаться к анализу идей, изучению теологических разработок и внутренней организации церкви. Но по-прежнему непременным отправным пунктом для исследования остаются изменения в области экономики и общественной жизни, а также перипетии борьбы за власть.
Общественное бытие естественно предшествует индивидуальному осознанию этого бытия. Однако душа верующего не ведает о таком отношении бытия и сознания: все представляется ему вынесенным в сферу идеологии, эволюции догмы и морали, а не в область реальных решений в процессе взаимодействия между людьми.
К этой именно системе отсчета мы и должны прибегнуть, чтобы понять феномен монашества, которое возникает из общего кризиса эпохи в последние десятилетия III в. и неудержимо развивается в течение всего IV в.
Речь идет о достаточно сложном движении. С одной стороны, неожиданное возникновение сильных аскетических течений связано с утратой морального климата ранних времен возникновения христианства, характерного для христианских общин, и с тягой к мученичеству. Не случайно аскета сравнивали с «холодным мучеником», который подвергает тяжкому испытанию свою физическую выносливость и умерщвляет свои инстинкты без пролития крови. С другой стороны, симптоматично, что «уход от мира» достигает массовых масштабов в наиболее перенаселенных районах Средиземноморья, и в первую очередь в Египте, где безработица и нищета толкали людей на бегство из городов и особенно из деревень. Для многих выход состоял именно в том, чтобы их приняли в изолированные от мира и приспособленные для совместной жизни религиозные центры. Только это давало людям сознание какого-то смысла жизни.
Идея аскетического поведения, которое отличалось бы от повседневного образа жизни массы верующих, чужда первым этапам христианской истории. В ожидании заката всгх существующих структур преобладает то настроение, которое можно определить как преходящую, выработанную лишь на время нравственность новозаветной общины. Ее нормы были обязательными для всех. Достижение «совершенства» не есть в те времена прерогатива избранных: кто не стремится к нему, тот не заслуживает прощения серьезных проступков, исключая критические ситуации и периоды преследований.
Различие между «предписаниями» и «советами», то есть между труднодостижимым религиозным идеалом и приобщением к общей богослужебной рутине, характерно, напротив, для современного христианского вероучения. Оно намечается только в III в., но свое теоретическое обоснование получает уже в константинианскую эру. Евсевий Ке-сар-ийский, придворный епископ, был первым, кто специально обосновывал эту дихотомию. В апологетическом сочинении «Евангельское предначертание» (около 323 г.) он Провозглашал, что церковь установила два разных правила поведения для двух различных типов жизни: одно для тех, кто стремится к высшим религиозным добродетелям (целомудрие, выбор безбрачия, отказ от богатства, незаинтересованность в каком бы то ни было улучшении социальных условий, полное посвящение жизни службе богу), и другое для тех, кто остается на уровне привычек повседневного существования (семейные узы, рождение детей, выполнение гражданского и военного долга, преследование материальных выгод).
Сам греческий термин askesis,[84] применявшийся с эллинистической эпохи для обозначения тренировки атлета, а затем распространенный на своего рода духовную гимнастику в стоической и неоплатоновской этике, совсем не встречается в Новом завете. Он, однако, употребляется Филоном Александрийским, посредником между классической философией и иудаизмом. От него мы узнаем о существовании групп аскетов — ессеее и терапевтов, которые жили коммунами, рассеянными между Египтом и Палестиной в годы появления самых ранних ростков христианства. Евсевий пытался ассоциировать имя еврея Филона с предтечами христианского монашества. Но то был домысел, лишенный каких-либо оснований.
Следует принять во внимание и феномен буддийского монашества, которое не могло не оказать косвенного или прямого влияния на средиземноморский мир через тонкие ручейки торгового обмена между азиатским Востоком и Западом. Случаи возникновения религиозных объединений не редки в дохристианскую эпоху — от пифагорейских собратств до орфических, вплоть до настоящих монастырей при святилищах Сераписа в Мемфисе, в Египте, об организации которых у нас есть целая серия чрезвычайно показательных свидетельств в папирусах II и I вв. до н. э.
Аскетизм гностиков не связан с этими традициями, хотя районы долины Нила особо интересовали их. Гностики столкнулись с этико-теологическим дуализмом персидского происхождения, который проник в христианство и стремился к отождествлению с некоторыми проявлениями жизненного инстинкта, и, естественно, сексуальности, связанными с апологией мужской силы.
Идеал абсолютного воздержания был сформирован в III в. Оригеном и Мефодием Олимпийским. Но в их писаниях сказывались также некоторые типичные мотивы неоплатоновской морали, распространенной в господствующих слоях, этого своеобразного алиби их привилегированного положения на земле. Плотин тоже утверждал, что первым моментом религиозного акта является разрыв с миром, «бегство одинокого к одинокому». Однако это не помешало ему стать рядом с императором Иорданом III в 242 г. в момент его похода против парфян. Его лучший ученик, Порфирий, глубоко враждебный христианской идеологии, посвятил своей супруге настоящий маленький трактат «Письмо к Марцелле», который можно было бы принять за произведение, написанное монахом в IV в. В нем он выступает предтечей прославления воздержанной жизни, о которой писал св. Иероним через сто лет, в 328 г., обращаясь к молодым римским аристократам с посланием к Евстохию.