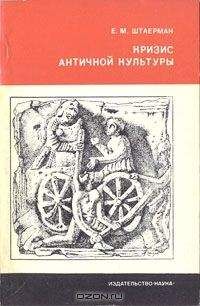Бог творит мир по модели своей премудрости — той самой премудрости, о которой в Библии сказано, что «она достигает всюду благодаря своей чистоте» [(Прем. 7, 24) и ^то она «вечно пребывает с Богомй '(Сир. 1, 1). Как мщ уже знаем, эту ветхозаветную премудрость Августин отождествлял с Логосом–Словом четвертого евангелия, а его — с разумом бога, носителем божественных идей (Бе<1іѵ. ди. 46). Создавая мир, бог заранее знаё^ и предопределяет не только общие принципы его устройства, но и судьбу каждой отдельной вещи, каждого индивида, изначально созерцаемую им в идеях своего разума. Божественная идея вещи, предназначенной к творению, есть ее полное индивидуальное понятие, где все ее прошлое и будущее даны в настоящем (Бе Тгіп. IV 1. Іп Іоаш Еѵ. I 17). В божественном замысле все идеи совер шенным образом согласованы; премудрость созерцает идею каждой вещи в ее соотнесенности со всеми остальными вещами и с целым. Для творимых вещей идеи выступают как образцы, по которым они творятся, как прообразы, основания и причины их бытия.
Эта концепция получила название «экземпляризм» '(от ехешріаг — образец, прообраз). Ее значение для средних веков хорошо передают следующие слова Э. Жильсона: «После Августина концепция божественного Слова, понятого как полнота идей, по образцу которых бог сотворил мир, будет свойственна практически всем христианским теологам. Правда, историки иногда рассматривают экземпляризм как типическую характеристику августинианской школы 4 в. Так, Бонавентура будет говорить против Аристотеля, что никто из тех, кто игнорирует идеи, не может считаться метафизиком. Но и томизм не более понятен, чем бонавентуризм, без учения о божественных идеях» [192]. В средние века экземпляризм существовал в самых разнообразных вариантах, сливаясь то с аристотелевско–авиценновской доктриной активного интеллекта, то с платоновско–плотиновым учением об идеях. Но во всех случаях схоластики имели для себя непосредственным источником экземпляризм Августина[193]. Сам же Августин опирался, конечно, на Плотина, в частности на его теорию «идей индивидов». Зависимость от платоников чувствуется и в том, что Августин часто отождествляет божественные идеи с числами, понимаемыми как некие активные творческие принципы, вносящие в мир структурность и определенность. Рассуждения Августина о числах напоминают то, что скажет потом о числах Прокл в «Первоосновах теологии»[194].
Идеальные числа и божественная премудрость, по Августину, одно и то же (De lib. arb. II 30—32). Числа, заключенные в вещах, или, точнее, организующие вещи, являются подобием чисел премудрости. В процессе творения бог проецирует идеальные, непространственные и вневременные числа на материю, и они обретают через это пространственно–временное существование. Нечто подобное происходит в творчестве художника, который, создавая свое произведение, начинает с замысла, с числовых отношений (пропорций, тонов, ритмов и т. п.), созерцаемых в идее, —с «идеальных чисел»; затем уподобляет этим идеальным числам ритмы своих движений — «движущиеся во времени числа» —и, наконец, переводит «движущиеся числа» в «числа пространственные» — в пропорции картины или статуи (Бе шиз.
VI 57). «Художники, творцы любых телесных форм, владеют в своем искусстве числами, в соответствии с которыми строят свои произведения. Создавая их, они до тех пор движут руками и инструментами, пока то, чему они придают форму, в согласии с внутренним светом чисел не получит завершенности и не понравится, будучи воспринятым чувством, внутреннему судье, созерцающему числа высшие» (Бе ІіЪ. агЬ. II 42). Как мы видим, креационизм Августина согласовывался с его теорией художественного творчества. В духе эстетики неоплатонизма он трактовал художественное произведение не как. подражание природе, а как подражание идеалу, осуществляемое через посредство личности художника.
Но не только неоплатонизм был источником августиновского отождествления божественных идей с числами. Августин любил также ссылаться на то место Библии, где сказано, что, создавая мир сообразно своей премудрости, бог «расположил все согласно с мерой, числом и весом» (Прем. И, 21).
В этой фразе он видел указание на то, что в своих идеях бог изначально соразмерил, рассчитал и взвесил все веіци, предназначенные к творению (Во паі,. Ъоп. 21). В идее каждая вещь определена со стороны формы своим числом, отношение между вещами определено мерой, или соотношением чисел; место каждой вещй в целом определено ее весом. Порядок сотворенного космоса отражает порядок создавшей его премудрости: порядок вещей отражает порядок идей. Число, мера и вес оказываются при ближайшем рассмотрении основными характеристиками эмпирического мира. Ритму подчинены дыхание, пульс, питание и возрастание человека, движение светил, времена года, поведение животных (Бе шиз. VI 20); все прекрасное в строении и движении тел происходит от чисел пространственных и временных (Бе ІіЪ. агѣ. II 42). Такой же всеобщностью в эмпирическом мире обладает мера, которая присуща всему тому, что имеет форму (Бе сііѵ. ди. 6). Но Августин наделяет универсальностью также и вес, имея в виду при этом не только физический вес, но и нечто большее. Он передает средним векам аристотелевское представление о весе как стремлении каждого предмета занять свойственное ему по природе место в космосе (Еп. із Рз. XXIV 2, 10). Вес свойствен также и духовным существам и выражается в их влечении к предметам любви (Бе сіѵ. Беі XI 16). Ниже мы увидим, какое большое значение придавал Августин этому «весу–любви» в этике и истории.
Благодаря числу, мере и весу мир оказывается упорядоченной иерархией существ, распределенных по своим «естественным местам» и имеющих различную относительную ценность. «Ибо в ряду того, что каким‑то образом существует, но не есть бог, его сотворивший, живое помещается выше неживого, способное рождать и испытывать желания — выше того, что не способно к этому. А среди живых существ чувствующие стоят выше нечувствующих, как, например, животные стоят выше растений. Среди же чувствующих разумные стоят выше неразумных, как люди — выше животных. А среди разумных бессмертные стоят выше смертных, как ангелы — выше людей. Все это помещается одно выше другого в силу порядка природы» (ІЬісЦ.
Взгляд на космос как на иерархй^скую структуру, где каждому предмету указан^ свое место по его чину, характерен не только дда Августина. Он в еще большей мере был свойствен всей восточной патристике; в классической фо^>ме этот взгляд выражен в трактатах Псевдо–Дионисия. Теория иерархии сущего разрабатывалась и в языческих школах поздней античности, особенно в неоплатонизме Ямвлиха и Прокла. Общераспространенность подобного рода воззрений в этот период объясняется в последнем счете социальными причинами: космическая иерархия была проекцией начавшей складываться уже во II‑III вв. иерархии сослбвной. Хотя, конечно, дело не сводится только к этому. Иерархизм был типичной чертой всей социальной и духовной жизни древнего Востока. Культурное сближение античного мира с Востоком, начавшееся еще в эпоху эллинизма, а затем непрерывно прогрессировавшее по мере все большей ассимиляции восточных религий и обычаев, должно было в конце концов привести к усвоению греко–римским миром ряда элементов восточных мировоззрений; к ним относилось и халдейское учение об иерархии сущего. Поскольку же восточные идеи по вполне понятным причинам более глубоко проникли в сознание греков, чем латинян, постольку и идея иерархии всего сущего, войдя в плоть и кровь мировоззрения византийцев, не получила такого жѳ резонанса на латинском Западе, хотя сходные социальные обстоятельства (иерархизация социальной жизни на востоке и эападе Римской империи) все же привлекли к ней определенное внимание вападных идеологов. Августин проникся этой идеей больше всех других латинских «отцов», но и у него она не стоит в фокусе всего мировоззрения и является чаще всего побочным продуктом его неоплатонизма или библейской экзегетики. Однако то, что у Августина было второстепенным, у его средневековых истолкователей стало первостепенным. Идеологи феодально–сословной иерархии находили у Августина метафизическое обоснование этого социального феномена, ссылались на авторитет учителя в своих доказательствах неизменности по–рядка универсума, являющего собой богом установленную восходящую лестницу существ.
Креационизм, как мы уже говорили, побуждал Августина видеть в мире порядок, гармонию и красоту. Если творец совершенен, то и творение должно быть насколько возможно совершенным. Если мир творится посредством высшей мудрости, он должен быть устроен максимально разумно, упорядоченно, закономерно. Но человеку многое в мире представляется как неразумное, противное порядку, случайное. Чем объяснить это? Как оправдать бога за существование в мире беспорядка и зла? Этим вопросам — вопросам «богооправдания», теодицеи — Августин постоянно уделял много внимания. Он предложил два варианта теодицеи. Первый вариант — теодицея метафизическая. Хотя мир создан совершеннейшим творцом, он все‑таки создан из ничего; отсюда его несовершенства, т. е. неполнота совершенства (см. выше). Зло и беспорядок не от бога, а от небытия: они не реальности, а недостаток реальности. Мир есть совершеннейший из всего, что может быть сотворено из ничего, — наилучший из всех возможных, но он не может претендовать на то, чтобы совершенством сравняться с творцом. В этом варианте теодицея строится на противопоставлении творца и творения, бога и мира.