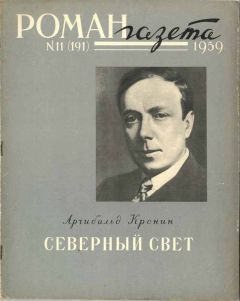Ознакомительная версия.
Мы сделали великолепные ясли с занесенной снегом крышей (снег был из настоящей ваты) и сзади пристраивали к стойлу быка и осла. У меня была припасена всякая всячина, разноцветные свечи и прекрасная прозрачная звезда, которая должна была повиснуть в небе и светить сквозь еловые ветки.
Я смотрел на сияющие личики вокруг меня и слушал возбужденную ребячью болтовню — это ведь один из тех случаев, когда развлечения в церкви дозволены, — и у меня было удивительное чувство легкости. Мне представлялись рождественские ясли во всех христианских церквах мира, где величают этот милый праздник Рождества, который даже для тех, кто не может верить, не может не быть прекрасным, как праздник всякого материнства. В этот момент один из старших мальчиков, посланный матерью Мерси Марией, поспешно вбежал с телеграммой. Поистине, злые вести и так достаточно быстро доходят до нас, без помощи телеграмм, которые разносят их вокруг земли. Наверное, я изменился в лице, когда читал. Одна из самых маленьких девочек начала плакать. Вся радость в душе у меня погасла. Может быть, скажут, что с моей стороны глупо так близко принимать это к сердцу. Фактически я потерял Джуди, когда она была подростком, при моем отъезде в Байтань. Но в мыслях я прожил с ней всю ее жизнь. То, что она писала редко, делало ее письма более выпуклыми, как бусинки на четках. Сила наследственности безжалостно влекла Джуди за собой. Она никогда не знала, чего она хочет или куда идет. Но пока около нее была Полли, она не могла стать жертвой своего каприза.
Во время войны Джуди процветала, как и множество других молодых женщин, работающих на военных заводах и получающих большое жалование. Она купила себе меховое пальто и пианино — как хорошо я помню то письмо, в котором мне сообщались эти радостные новости — и была намерена продолжать в том же духе, сама атмосфера тех лет благоприятствовала ее усилиям. Это была пора ее расцвета. Когда война окончилась, ей было за тридцать, благоприятных возможностей для работы было мало, Джуди постепенно оставила всякую мысль о карьере и вновь погрузилась в спокойную жизнь с Полли, разделяя с ней тихую квартиру в Тайнкасле и обретая, как я надеялся, вместе со зрелостью большую уравновешенность. Она, казалось, всегда относилась к представителям другого пола со странной подозрительностью, и ее никогда не привлекало замужество. Ей было сорок, когда умерла Полли, и невозможно было помыслить, что она изменит своей холостой жизни. Однако через восемь месяцев после похорон Джуди вышла замуж… и позднее была брошена. Не к чему скрывать тот грубый факт, что женщина часто делает страшные вещи в критическом возрасте. Но не этим объяснялась эта жалкая комедия. Полли оставила Джуди в наследство около двух тысяч фунтов — достаточно, чтобы обеспечить ей скромный годовой доход. Только получив письмо Джуди, я догадался, как ее убедили реализовать свой капитал и передать его ее рассудительному, честному и воспитанному мужу, которого она встретила впервые, по-видимому, в пансионе в Скарборо. Можно было бы, без сомнения, написать целые тома на эту основную житейскую тему… драматичные… аналитические… в возвышенном викторианском стиле… может быть, с самодовольной иронией тех, кто находит смешное в легковерии человеческой натуры.
Но эпилог был очень краток, написан в десяти словах на телеграфном бланке, который я держал в руке, стоя у рождественских ясель. От этого запоздалого мимолетного союза у Джуди родился ребенок. И она умерла от родов.
Теперь, когда я размышляю об этом, я вижу, что через всю непоследовательную жизнь Джуди проходила какая-то темная нить. Она была наглядным свидетельством не греха, — как я ненавижу это слово и как не доверяю ему, — но человеческой слабости и глупости. В них причина и объяснение того, чем мы являемся здесь на земле, в них трагедия всех смертных.
И теперь, в другом варианте, но с все той же печалью, эта трагедия снова увековечивается. Я не могу заставить себя подумать о судьбе этого несчастного ребенка, о котором некому позаботиться, кроме женщины, что ухаживала за Джуди, — она и прислала мне телеграмму. Очень легко ее себе представить: это одна из тех мастериц на все руки, которые берут к себе жить будущих матерей, находящихся в стесненных и несколько сомнительных обстоятельствах. Я должен немедленно ей ответить… и послать денег… то немногое, что у меня есть. Когда мы принимаем обет святой бедности, мы как-то странно эгоистичны, забывая о тех ужасных обязательствах, которые может наложить на нас жизнь. Бедная Нора… бедная Джуди… бедный маленький безымянный ребенок…
19 июня 1930. Великолепный, сияющий, солнечный день раннего лета, и на душе у меня полегчало после письма, полученного сегодня днем.
Ребенка окрестили Эндрью в честь нашей имеющей дурную репутацию миссии, и эта новость тешит мое старческое тщеславие, словно я сам дедушка этого маленького бедняги. А может быть, хочу я того или нет, мне все-таки придется быть ему дедушкой. Отец исчез, и мы не станем делать попыток разыскать его. Но если я буду посылать каждый месяц некоторую сумму денег, то эта женщина, миссис Стивенс, — а она, кажется, хорошая, — будет заботиться о нем. Вот я опять не могу удержаться от улыбки… моя карьера священника была такой мешаниной всяких странностей… что вырастить младенца на расстоянии восьми тысяч миль будет ее достойным завершением.
Минуточку! Эти слова — «моя карьера священника» — задели меня за живое. Как-то во время одной из наших перепалок, — кажется, речь шла о чистилище, — Фиске заявил очень запальчиво, так как я брал верх над ним: «Вы рассуждаете так, будто вы и последователь секты святого Роллера[61] и представитель высокой англиканской церкви одновременно». Это сразу заставило меня остановиться. Я полагаю, что мое воспитание и то неподдающееся измерению влияние, которое оказал на меня, когда я был ребенком, милый старый Дэниел Гленни, сделали меня чрезмерно либеральным. Я люблю свою религию, в которой я родился, которой я учу, как могу, других вот уже больше тридцати лет и которая неизменно приводила меня к источнику всякой радости, к источнику вечной доброты. Но здесь, в моем уединении, мои взгляды упростились, стали яснее с годами. Мысленно я связал и тщательно упрятал все сложные, не имеющие существенного значения догматические придирки. Откровенно говоря, я не могу верить, что какое-нибудь Божье созданье будет осуждено на вечные муки из-за съеденной в пятницу бараньей котлеты. Если у нас есть основное — любовь к Богу и к ближнему — то с нами все в порядке. И не пора ли церквам всего мира отказаться от взаимной ненависти… и объединиться?
Мир — это единое живое дышащее тело, здоровье которого зависит от множества, составляющих его клеток… и каждая крошечная клетка — сердце человека…
15 декабря 1932. Сегодня новому патрону этой миссии исполнилось три года. Я надеюсь, что он хорошо провел свои день рождения и не объелся конфетами, которые по моему письменному заказу ему должны были доставить из Твидсайда.
1 сентября 1935. О Господи, не дай мне стать старым глупцом… этот дневник все больше и больше превращается в бессмысленное повествование о ребенке, которого я никогда не видел и никогда не увижу. Я не могу вернуться, а он не может приехать сюда. Даже мое упрямство отступает перед нелепостью мысли о его приезде… хотя, если говорить начистоту, я спрашивал об этом у доктора Фиске, и он сказал мне, что здешний климат смертелен для английского ребенка в таком нежном возрасте. Однако, должен признаться, что я беспокоюсь. Читая между строк, я вижу из писем миссис Стивенс, что ей, кажется, не везет в последнее время. Она перебралась в Керкбридж. Насколько я помню, это город текстильных фабрик недалеко от Манчестера, отнюдь не производящий хорошего впечатления. Тон ее писем тоже изменился, и я подозреваю, что ее начинают больше интересовать деньги, которые она получает за Эндрью, чем он сам. Но приходской священник дал ей прекрасную характеристику, и до сих пор она была замечательной. Конечно, я сам во всем виноват. Я мог бы до известной степени обеспечить будущее Эндрью, поручив его какому-нибудь из наших превосходных католических учреждений для детей. Но как-то… он мой единственный «кровный родственник», живое воспоминание о моей дорогой потерянной Норе… я не могу и не хочу быть таким безличным… …это, наверное, потому, что у меня вечно все не как у людей… все во мне восстает против казенщины. Ну, что ж… если это так… мне… и Эндрью… придется отвечать за последствия… мы в руках Божиих, и Он…»
Тут отец Чисхолм стал переворачивать страницу, но его сосредоточенность была нарушена стуком копыт пони во дворе. Он поколебался, прислушиваясь, — ему не хотелось расставаться с охватившей его задумчивостью. Но стук копыт становился все громче, к нему примешались оживленные голоса. Он поджал губы, выражая покорность. Потом перечитал последнюю запись в дневнике, взял перо и добавил еще одну.
Ознакомительная версия.