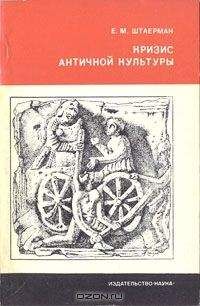В соответствии с этим учением все блага заслуживают любви, но не все — ради них самих. Так, например, человек должен любить свое тело и телесное здоровье, должен о нем заботиться, но не должен превращать эту любовь в самоцель, ибо тело, хотя и благо (ибо оно создано богом), но благо подчиненное, низшее. То же самое можно сказать и о всех чувственных вещах, в которых нужно любить не их самих, а ту красоту и порядок, которые указывают в них на бога (Кеіг. II 15). В конце концов Августин приходит к выводу, что наслаждаться достойно одним лишь богом, а все остальное, включая любовь к ближнему, относится к разряду средств, способных стать вспоможениями на пути к достижению этой цели (Бе Досіг. сЬг. III 15). Отсюда следует и вся августиновская иерархия «предпочтений»; и в природе, и в самом себе человек должен любить больше то, что ближе стоит к богу, меньше — что от него удаляется: живое он должен любить больше, чем неживое; душу — больше тела, в душе должен предпочитать разум чувству; в разуме — созерцательную часть деятельной (СопЪг, Раизі. XXII 27—28). В иерархический ряд выстраивалось все сущее: вещи, блага, ценности, мысли, стремления, мотивы и действия. Философия Августина принимала знакомый средневековью вид философии мировой иерархии.
Мы взяли бы на себя непосильный труд, если бы попытались всесторонне оценить значение августиновской этики для средних веков. Ведь почти все, что мы воспроизвели здесь из его этики, вошло в состав этики схоластической. Антиномия природы и благодати, столь драматически пережитая Августином, разрывала саму субстанцию средневекового мышления в продолжение целого тысячелетия. Никто из средневековых теологов не прошел мимо нее. Не меньше забот вызвала и связанная с ней антиномия свободы и предопределения, в попытках разрешить которую упражняли свое искусство средневековые «диалектики». По примеру и образцу Августина были написаны десятки трактатов о свободе воли, начиная с Проспера Аквитанского и Алкуина и кончая теологами XIV столетия[204] или даже рационалистами XVII в. типа Лейбница. Проблематика дебатов каролингской эпохи между Рабаном Мавром и Хинкмаром, Готшальком и Эриугеной — это проблематика августиновской «Бе ІіЬего агЬіІгіо» [205]. Различение свободы и свободы воли стало основой этики Ансельма Кентерберийского и Альберта Великого[206]. Разумеется, еще более глубоким было усвоение соответствующих идей Августина в школе францисканцев, видевших в его «волюнтаризме» спасение от томистской и аверроистской рационализации теологии.
«Психологическое» учение Августина о добродетели было в средние века чем‑то само собой разумеющимся. Теологи и просто граждане теократического средневекового общества признавали над собой только одного верховного царя и судью —бога. Перед ним, всевидящим, они должны были держать последний ответ и за свои поступки, и за свои намерения. Быть добродетельным означало быть благочестивым — иметь честные намерения и чистую совесть. А это в средневековом понимании в свою очередь означало быть боголюбивым и богобоязненным, т. е. религиозным. Древние латинские понятия «ѵігіиз», «ріеіаз» и «ГѲІІ&ІО» не без влияния Августина (сі. Бе сіѵ. Оеі X 1) сливались в сознании человека той эпохи в одно, выражающее почитание бога. Неотъемлемым элементом средневекового миросозерцания оставалась и теоретически осмысленная Августином иерархия средств и целей, пользования и наслаждения. В этическом плане весь земной мир представлялся (во всяком случае в ранний период средневековья) только средством, с помощью которого человек может достигать своей истинной цели — мира небесного. Вместе с тем земное существование человека рассматривалось и как испытание. Средством и испытанием с этих позиций представлялась также и человеческая история, странничество человека и человечества во времени.
Обычно Августина считают первым философом истории, имея в виду, что он впервые рассмотрел всю историю человечества как единый, закономерный и объективный процесс, встроенный в процесс эволюции мира в целом. В каком‑то смысле своя философия истории была и у древних, ведь и они видели историю подчиненной некоторым объективным законам — законам цикличности. Они не только описывали исторические факты и лица, но и пытались оценивать их с позиций определенной философии[207]. Примером могут служить «Сравнительные жизне–Описания» Плутарха. Однако никто йз известных нам античных мыслителей не привел в систему тогдашние воззрения на историю, никто не построил исторической теории. Возможно, именно циклизм, непреодолимая дурная бесконечность повторения, — вот что делало для античности малопривлекательным углубленное исследование исторического процесса. Да и самого понятия исторического процесса античность не знала. «Процесс» — термин, обозначающий движение вперед, родственный термину «прогресс». Но даже неоплатонизм, который, по–видимому, под влиянием уже конкурировавшего с ним иудео–христианского историзма, включил в свой лексикон подобные термины, допускал процесс и прогресс (ргоойоз) не временной, а только логический. В общем если у нас и нет достаточных оснований считать Августина основателем философии истории, ибо своеобразная философия истории существовала и до него, то у нас есть все причины считать его первым основательным философом истории, создавшим глобальную теорию исторического процесса.
Моделью для этой теории послужила библейская историография, и в частности новозаветные указания о сбывшихся ветхозаветных пророчествах. Вера в то, что предреченное «вдохновенными» пророками за много столетий сбывается в установленные сроки, вела к убеждению, что история, даже при уникальности всех ее событий, принципиально предсказуема, а следовательно, осмысленна, наполнена смыслом. Библия давала ответ и относительно основания осмысленности истории: это основание — божественная опека человечества, божественный промысл, провидение. Но божественная опека и провидение означают в то же время предопределение (ср. Рим. 9, 11—24), а предопределение есть всегда предопределение к чему‑то. Отсюда вытекало, что история человечества имеет какую‑то цель, а каждая историческая эпоха имеет свое назначение в рамках осуществления этой цели. Ясного и однозначного понятия о конечной цели истории в Библии не дано. Но в ней при желании можно было найти оценки миссии истории как спасительной, искупительной, исправительной и назидательной, а также испытательной. Августин, не отказываясь ни от одной из этих оценок, попытался привести их к единству. Провиденциализм и телеологизм (финализм) Библии он сделал более систематическими и менее загадочными.
История земного человечества заключена, согласно Августину, между двумя катастрофическими событиями: грехопадением Адама и Евы и Страшным судом. Все, что должно произойти за это время, служит реализации изначального божественного плана: наказанию людей за первородный грех; испытанию их способности сопротивления размножающемуся вместе с греховным человечеством злу и испытанию их воли к добру; искуплению первородного греха; призванию лучшей части человечества к построению священного сообщества праведников; отделению праведников от грешников («пшеницы от плевел») и окончательному воздаянию каждому по его заслугам. В соответствии с задачами этого плана история делится на шесть периодов (эонов), символизируемых шестью днями творения: первый — от Адама до потопа; второй — от потопа до Авраама; третий — от Авраама до Давида; четвертый — от Давида до Вавилонского пленения; пятый — от Вавилонского пленения до рождения Христа; шестой — от Христа до Страшного суда (Бе сіѵ. Беі XXII 30). Устанавливая данную периодизацию, Августин ссылался на Евангелие от Матфея, где исчисляется число поколений, предшествовавших рождению Христа (ІЬій.). Однако Августин, как правило, воздерживается говорить о временной продолжительности каждого из периодов и считает все библейские эсхатологические сроки чисто символическими. В связи с этим он отверг и концепцию хилиазма (ІЬій. XX 7, 9). Если относительно дохристианской истории, по его мнению, еще можно говорить о ее хронологической разнородности, находя в Библии указания на начало и конец каждого из периодов, то в отношении последующей истории Библия указывает только на ее начало, а поэтому время ее окончания он считал непредсказуемым (ІЬій.). Вообще в противоположность его христианским предшественникам и сред-»
невековым последователям Августин больше интересовался не хронологией, а логикой истории.
Раскрытию логики, или, лучше сказать, мистической диалектики, истории был посвящен его главный труд — «Бе сіѵііаіе Беі»[208], название которого традиционно переводится на русский язык «О градѳ божьем». Мы остаемся верными этой традиции, хотя лучше было бы осовременить и уточнить этот перевод; правильнее было бы переводить «О государстве бога» или «О божественном обществе», так как в книге речь идет не о граде–полисе древнегреческого или древнерусского типа, а именно о всемирном, «экуменическом» сообществе людей и к тому же о сообществе не политическом, а идеологическом, духовном. Даже космополитическая Римская империя служила Августину лишь весьма неадекватной моделью для его «всемирного сообщества». Более близкой моделью была реально существовавшая в его эпоху наднациональная христианская церковь, ессіезіа (община, сообщество).