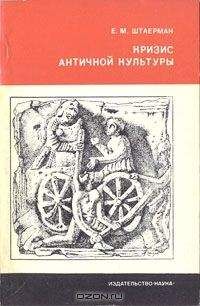В изложенном выше учении об обществе и государстве, подчеркивающем социальную природу человека, Августин не проявил такого пессимизма, какой ему подчас приписывается современными исследователями, противопоставляющими его взгляды на общество воззрениям Фомы Аквинского[210]. В принципе Августин, как и Фома, рассматривал общество, государство как институт естественный и даже божественный, о чем свидетельствует само название его главного социально–исторического труда— «О государстве бога»[211]. Однако в отличие от Фомы он в духе присущего ему платонизма сосредоточивает внимание на противопоставлении государства идеального и эмпирических государств, подчеркивая несовершенство и извращенность последних. Но даже в отношении эмпирических государств он не высказывался только отрицательно. Например, он считал их положительной функцией эффективное удовлетворение экономических потребностей людей и поддержание порядка (Бе сіѵ. Беі XIX 13), хотя, разумеется, он в значительно большей степени, чем потом Фома, настаивал на принудительном, подавляющем характере государственной власти, так как имел перед своими глазами реальную практику крупномасштабного социального принуждения и подавления по отношению к донатистам и циркумцеллионам. Желая хоть как‑то утешить христиан, подвергавшихся насилию со стороны властей христианской же империи, Августин стал подчеркивать временный, преходящий характер государственной власти, которая допущена богом якобы для того, чтобы исправить человека в его падшем состоянии. Само по себе принуждение, как и рабство, Августин не считал чем‑то вытекающим из человеческой природы. Если бы не /было грехопадения, рабство и государственный аппарат принуждения нѳ возникли бы (ІЪій. 15) [212]. Но коль скоро государственная власть существует, е?' следует считать относительным благом, которым следует пользоваться, но не наслаждаться. Наслаждаться же следует только абсолютным благом, выразителем которого является в этой земной жизни христианская церковь. Поскольку справедливость требует соблюдения порядка благ и ценностей, принципом общественной жизни должна стать евангельская максима: «Богу — богово, кесарю — кесарево» (8егт. 4) — государство и церковь должны существовать вместе, но неслиянно. Правда, идея раздельного и независимого существования двух властей — духовной и светской, характерная для Августина–теоретика, имела для него значение скорее регулятивного принципа, чем практической установки[213]. Да и в самом фундаменте августиновской концепции разделения властей таилась возможность превращения ее в противоположную теорию теорию теократии: подчиненность в иерархическом порядке светского духовному, земного небесному могла легко быть истолкована как подчиненность государства церкви[214]. Что эта возможность была слишком реальной, показал сам Августин. В спорах с донатистами он представляет правителей как «слуг господних», отстаивает их право применять методы принуждения в интересах церкви, считает заботу о единстве церкви высшей задачей государственного правления. После некоторых колебаний он приходит и к одобрению использования государственной военной силы против раскольников, оправдывая принудительное обращение донатистов в православие своей теорией насильственного спасения. Отсюда и его печально известная формула: «Со&е іпігаге!» (принудь войти!)[215].
Таким образом, двойственность подхода Августина к социально–политическим проблемам была одновременно следствием и его метафизического дуализма, и современной ему исторической ситуации. В его эпоху церковь уже победила римское государство, но ойа еще не вделала это государство теократическим. «Благочестивый» император Феодосий, бывший в глазах Августина образцом христианского прин^епса фе сіѵ. Беі V 24, 26), представлял собой пример пока еще уникальный. Отчасти в силу исторической инерции, отчасти по причине сохраняющегося несовпадения актуальных интересов церковь продолжала относиться к Римской империи если не враждебно, то настороженно и отчужденно. У Августина это выразилось в учении о принципиальном различии судеб светского и духовного государства. Однако империя, с его точки зрения, есть временное пристанище для церкви, и в этом смысле она не есть зло. С этих позиций Августин отвергал и доконстантиновское представление об империи как орудии дьявола, и мнение, возникшее сразу же после легализации христианства Константином, что империя — это орудие божественного провидения, предназначенное для спасения человечества и построения царства божия на земле, — мнение, которого, как известно, придерживался придворный историк Евсевий Кесарийский. Августин относился к империи без всякой апокалиптической эмоциональности и видел в ней нечто только временное, земное, а потому в естественном порядке имеющее конец. Вот почему разграбление Рима готами он в противоположность многим своим современникам воспринял без излишнего трагизма и патетики, считая его закономерным результатом исторического развития. Правда, умирая в осажденном вандалами Гиппоне и видя воочию неотвратимость гибели Римской империи, он, как сообщает его биограф Пацидий, больше всего молил бога о том, чтобы тот послал ему смерть раньше, чем он увидит торжество варваров.
Теперь нам остается только сказать о влиянии философско–исторических и социально–политических идей Августина. Схема исторического процесса и методология истолкования исторических явлений были переняты от него практически всеми западными средневековыми историками. Во времена, ближайшие к Августину, под впечатлением продолжающихся и приобретающих все более грозный вид исторических катаклизмов его преемники усиливают эсхатологизм его учения[216]. Мрачная^/картина движущейся к погибели и запутавшейся в грехах и пороках Римской империи рисуется/учеником Августина Орозием в его семи книгах «Истории против язычников» [217]. В сочинении жё Сальвиана «О правлении божьем»[218] этот эсхатологический пессимизм уравновешивается и перевешивается провиденциализмом — прием, использованный Августином в «Граде божьем». После Сальвиана провиденциализм становится почти универсальным убежищем от исторического пессимизма; критика истории надолго вытесняется ее оправданием, апологетикой.
Исторические воззрения Беды Достопочтенного и Исидора Севильского отмечены влиянием августиновской идеи двух планов истории: мистического, выраженного в символических событиях истории библейской, и эмпирического, касающегося реальной истории народов. Восходящая к Августину символическая теология истории в продолжение всего средневековья будет возмещать отсутствие светской фактографической истории[219]. Однако его влияние в эпоху высокого и позднего средневековья было, по–видимому, настолько велико, что никто, кроме, может быть, Иоахима Флорского, не брал на себя смелость сказать в теологической философии истории что‑то новое, и дело ограничивалось в основном приложением августиновских идей к конкретным событиям текущей истории[220]. Этим объясняется то, что после Августина в средние века фактически не было ни одного самостоятельного философа истории[221].
Учение Августина о государстве было истолковано в средние века в духе теории теократии. Другие стороны этого учения вплоть до XIII‑XIV вв. были в забвении. Теория разделения властей, обычно сопутствовавшая в эту эпоху теории двух истин, первоначально возникла в противовес августинизму. Только Оккам найдет в сочинениях Августина ряд авторитетных подтверждений этой теории. Напротив, идеологи теократии, такие, как Хинкмар, Гуго СенВикторский, Томас Бекет, Иоанн Солсберийский, Фома Аквинский, Эгидий Римский и др., от начала до конца средневековья будут считать Августина своим полным единомышленником[222].
ДЕФОРМАЦИЯ ОБРАЗЦА: ЗАРОЖДЕНИЕ СХОЛАСТИКИ
После Августина на латинском Западе наступает» продолжительный период духовного бесплодия. Варварские нашествия приостановили начавшийся ранее процесс идеологического перевооружения и заставили от теологических абстракций обратиться к недвусмысленной проблеме физического выживания. Самые основы созданной в предшествующее тысячелетие европейской цивилизации оказались под угрозой гибели. Не удивительно, что философские исследования в этот период резко сокращаются и приобретают иной по сравнению с предыдущим периодом характер. Спекулятивное творчество окончательно замирает, его место заступает воспроизведение и подражание. Модель подражательной, иконографической философии была построена уже в эпоху патристики. Философствующие отцы церкви, как мы видели, не претендовали на роль творцов и новаторов. Своей задачей они считали извлечение уже готовой философии из Писания и ставили себе в заслугу разве только искусство своеобразной майевтики, облегчающее рождение «скриптуральной» философии. Секрет этого искусства состоял в умении в, казалось бы, самых бесхитростных словах Библии видеть символы философских теорий. Но мы теперь знаем, что на деле патриотическая майевтика часто превращалась в спекуляцию, воспроизведение — в произведение, подражание — в творчество. Содержанием этого творчества был религиозно–философский синтез — сплавление религиозных представлений христианства с понятиями античной философии, классическим образцом которого явилась философия Августина. Августином же и заканчивается работа крупномасштабного идеологического синтеза. На смену ему приходит бухгалтерский формальный анализ и некритическая имитация. Содержание приносится в жертву форме, остатки интеллектуальной самобытности — в жертву авторитету. Отцы церкви признавали абсолютным авторитетом Писание. Их эпигоны присоединили к нему авторитет самих отцов. Отцы церкви предавались философским медитациям над Писанием. Их эпигоны не меньше философствовали над писаниями отцов. В общем сочинения классиков патристики были для их эпигонов почти тем же, чем для классиков была Библия. Разница была только в том, что в Библии не содержалось никакой систематической философии и отцам церкви приходилось ее измышлять самим, а в писаниях патристики таковая уже содержалась, и эпигоны действительно могли просто извлечь ее в готовом виде. Нередко так и происходило: эпигон просто перелагал своими словами и применительно к своим целям философские пассажи из патристических сочинений. Но чаще он стремился дать свою собственную реконструкцию взглядов классика, особенно там, где они были выражены недостаточно ясно, и, не обладая требуемой в таких случаях конгениальностью и историческим чутьем, обычно модернизировал излагаемую концепцию, точнее, деформировал, упрощал и огрублял ее, подтягивая под интеллектуальный стандарт своего времени. Поклоняясь Августину, раннее средневековье в действительности поклонялось своему образу Августина или даже его тени, лишенной плоти и крови. Диалектическое богатство его живой мысли редуцировалось к простейшей мертвой схеме. Усечению подлежал прежде всего, конечно, античный компонент мировоззрения классика. Античность с ее своеобычным мировосприятием все больше удалялась в прошлое, становилась все более чуждой и непонятной. Не более понятными оказывались и античные реминисценции отцов церкви. Средневековье воспринимало патристику по–средневековому, видя в ней свое отражение или, лучше сказать, свой первообраз. С другой стороны, оно идеализировало патристику, считая ее недосягаемым для себя образцом и каноном. Никто и не задумывался над тем, что за этот образец и канон принимается не сама патриотическая мысль, а только ее редуцированный и деформированный вариант. Парадигма философского мышления, утвердившаяся в патристике, продолжала ост^ваться господствующей и в средние века. Однако если говорить о раннем средневековье (примерно до середины XII в.), то в сравнении с патристикой философская мысль этой эпохи характеризуется значительно меньшей творческой свободой и оригинальностью, значительно менее широким спектром проблем, намного более сильным тяготением к формальным изысканиям. Кроме того, если патристика черпала свои философские понятия, как правило, либо непосредственно из сочинений античных классиков, либо из их латинских переводов, раннее средневековье чаще пользовалось для этого позднейшими языческими компиляциями, хрестоматиями и комментариями или даже тенденциозными переложениями идей античных школ, данными отцами церкви. Поэтому восприятие указанной эпохой философского наследия античности было еще более деформированным, чем восприятие философии патристики. Из круга чтения западноевропейского философствующего читателя выпали почти все философы древности. Их отверженные сочинения в огромном числе были постепенно забыты и многие вследствие этого исчезли навсегда, другие же хранились нераскрытыми в монастырских архивах, столетиями дожидаясь своего читателя. Но все же и в этот, ранний, период средневековья духовная преемственность с античностью не была прервана. Она не была прервана благодаря утвердившемуся авторитету сочинений классиков патристики и авторитету вышеупомянутых языческих компиляций, благодаря ученой деятельности «отца средневековья» Боэция, а также благодаря подвижнической деятельности ученыхмонахов, идейным вдохновителем которых был последний римский сенатор Кассиодор.