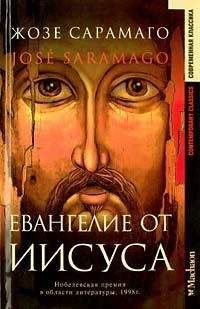И от этой столь многое обещавшей Пасхи осталось у Марии светлое воспоминание всего лишь о том, как не пришлось ей помогать готовить праздничное угощение и потчевать сидевших за трапезой мужчин. Другие женщины, хлопотавшие в кухне, избавили ее от этого, говоря, что, мол, этого тебе нельзя – а они, наверно, знали, что можно, а что нет, ведь почти у каждой из них были дети.
Так что ей ничего иного и не пришлось делать, как прислуживать Иосифу, сидевшему на полу вместе с другими мужчинами, – наливать ему вина или подкладывать на тарелку деревенские яства вроде пресных лепешек, или постной ягнятины, или горьких трав, или шариков, слепленных из смолотой в муку сушеной саранчи, – традиционным этим кушаньем Анания гордился особенно, но иные гости воротили от него нос, хоть и совестились своего отвращения, ибо в глубине души чувствовали, что недостойны следовать примеру многих пророков, которые, скитаясь по пустыне, выдавали нужду за добродетель, а саранчу – за неземного вкуса лакомство. К концу ужина, впрочем, бедная Мария отсела в сторонку, вся в крупной испарине, не зная, как поудобней пристроить свой большой живот, плохо уже различая смех, разговоры, рассказы, молитвословия и чувствуя, что с каждой минутой она все непреложней и бесповоротней готова уйти из этого мира, с которым тончайшей нитью связывала ее лишь последняя ее мысль, мысль ни о чем, не облеченная ни в слова, ни в образ, и скорее даже не мысль, а просто ощущение того, что она думает – неведомо о чем и для чего. Она очнулась как от толчка, потому что из мрака этого полузабытья выплыли перед нею сначала лицо нищего, а потом и все его огромное тело в лохмотьях, и ангел – если это был ангел – вошел в ее сон без предупреждения и не как случайное воспоминание и смотрел на нее отстранение, рассеянно и чуть вопросительно и, быть может, с еле уловимым оттенком любопытства, а быть может, и вообще ничего этого не было, но сердце Марии затрепыхалось, как испуганная птичка, и она сама не знала, от страха ли, оттого ли, что кто-то шепнул ей на ухо нежданные и смущающие слова. Мужчины и юноши по-прежнему сидели на полу, а разгоряченные женщины сновали взад-вперед, разнося последние кушанья, но уже стало заметно, что все насытились и пресытились и, хотя оживляемая вином беседа звучала все так же громко, веселье явно шло на спад. Она поднялась, и никто не обратил на нее внимания. Уже совсем стемнело, и свет звезд на ясном безлунном небе, казалось, вызывал какой-то отдаленный, почти неуловимый гул, и жена плотника Иосифа восприняла его не слухом, а неведомо как – кожей, костями, нутром, всей своей плотью, которую словно пробила, все никак не отпуская, нескончаемо блаженная судорога сладострастия. Мария пересекла двор и выглянула наружу. Она никого не увидела. Ворота ее дома, стоявшего по соседству, были заперты – она сама заперла их перед уходом, но воздух колебался, как будто кто-то прошел, пробежал, а может быть, пролетел там, не оставив после себя ничего, кроме этого смутного, ей одной внятного знака.
* * *
По прошествии трех дней, уладив дела с заказчиками, согласившимися подождать до его возвращения, простившись со старейшинами в синагоге, вверив попечению соседа Анании дом свой и добро, в этом доме находящееся, плотник Иосиф с женой двинулся из Назарета в Вифлеем, чтобы в соответствии с повелением кесаря пройти там перепись. Если по причине неисправной связи или сбоев в синхронном переводе на небесах узнали о римских декретах с опозданием, то Господ» Бог очень, должно быть, удивился, увидев, как неузнаваемо переменился Израиль, который толпы людей пересекали во всех направлениях, тогда как раньше и всегда в дни, следовавшие за праздником Пасхи, всякое движение в стране было центробежным и потоки людей растекались по стране из одного лишь места. Мы имеем в виду земное солнце, пуп земли, Иерусалим.
Можно, конечно, не сомневаться, что абсолютная божественная проницательность совладает с силой привычки и легко позволит даже с такой небесной высоты заметить перемены и отличить богомольцев, неспешно бредущих привычными путями и проторенными дорогами в родные городки и деревни, от тех, кто, свершив или нет свой священный долг перед Богом в Иерусалиме, шагал теперь исполнять мирское повеление кесаря, хотя нетрудно и перевернуть этот тезис и представить указ императора Августа боговдохновенным, если Бог по ему одному ведомым причинам и вправду захотел, чтобы Иосифу и его жене именно в этот отрезок их жизни выпало на долю идти в Вифлеем.
Эти рассуждения лишь на первый взгляд кажутся бесцельным и праздным умствованием – на самом деле они имеют к нашему рассказу самое непосредственное отношение, и благодаря им можно будет представить, как шли наши путники одни-одинешеньки по местам безлюдным и диким, где не было ни души и не от кого было ждать сочувствия или помощи, и рассчитывать им приходилось исключительно на милосердие Господа, а поддержки ждать лишь от ангелов небесных. Впрочем, когда Иосиф и Мария только выйдут из Назарета, дело будет обстоять не так: вместе с ними двинутся еще два семейства, причем весьма многочисленные, так что всего со старцами, отроками и младенцами получится душ двадцать, – можно сказать, целое племя. Идут они, разумеется, не в Вифлеем: одно семейство отстанет на полпути, в деревне неподалеку от Рамалы, другое направится дальше к югу, да и потом все равно они расстанутся, потому что одни поспешают, другие еле плетутся, а на дороге появятся новые попутчики, не говоря уж о встречных, которые – как знать? – должны пройти перепись в Назарете. Впереди, отдельно от прочих, – мужчины и отроки, достигшие совершеннолетия, то есть тринадцати лет, а женщины, девушки и старухи нестройной толпой тащатся позади, и с ними дети всех возрастов. В начале пути мужчины громогласным хором возносят соответствующую обстоятельствам молитву, которой тихо и неразборчиво вторят женщины, накрепко усвоившие, что, молись не молись, вряд ли будет молитва твоя услышана, даже если ты Бога ни о чем не просишь, а всего лишь возносишь ему хвалу.
Мария из всех женщин оказалась единственной, кто на сносях, и тяготы пути для нее так мучительны, что, не пошли ей судьба ослика, наделенного бесконечным терпением и столь же безмерной выносливостью, она бы и шагу не сделала, а, окончательно потеряв присутствие духа, попросила бы, чтоб посадили ее на обочину дороги в ожидании истечения сроков, которые, как мы знаем, близки, хоть в точности и неизвестно, где и когда они наступят, а обычай и вера не велят держать пари насчет того, когда и где появится на свет сын плотника Иосифа. Ну а покуда час разрешения от бремени не настал, Мария в тягостях своих сможет рассчитывать не столько на заботы – небрежные и редкие – мужа, постоянно занятого и увлеченного беседой с попутчиками, сколько на испытанную кротость и смирный нрав осла, который вез ее, сам удивляясь, – если, конечно, перемены в жизненном укладе и в клади на спине доступны разумению осла, – что его не подстегивают, не понукают и что он может идти, как вздумается ему и его длинноухим сородичам, тоже постукивавшим копытами по дороге. Из-за того, что шли они шагом, женщины часто отставали от передовых мужчин, и тем тогда приходилось останавливаться и ждать, пока их догонят, хоть и делали при этом вид, что остановились просто передохнуть, ибо Пусть дорога и мирская, принадлежит всем и никому, но известно, что там, где петухи кукарекают, куры не кудахчут, разве что когда снесутся, и в том залог упорядоченности мира, в котором выпало нам на долю жить. И вот Мария, мягко покачиваясь в такт неспешному аллюру своего скакуна, ехала царицей, выделяясь среди своих спутниц, поскольку они все шли пешком, а прочие ослы навьючены были их пожитками и разнообразным домашним скарбом.
Ну а чтобы женщинам было полегче, чтобы они могли передохнуть, Марии давали на руки то одного, то другого, то третьего ребенка, и так вот она заранее привыкала к ожидавшей ее материнской если не доле, то ноше.
В первый день, пока путники еще не втянулись, пройдено не слишком много, не забывайте тем более, что шли с ними вместе старики и малые дети: первые за долгую жизнь уже порастратили все свои силы и даже не притворялись, будто что-то осталось; вторые же, еще не умея правильно распределять их и ими распоряжаться, истощили их часа за два неуемной беготней, ибо носились они по дороге так, словно близится конец света и надо с толком использовать последние минутки. Привал устроили в большой деревне, называвшейся Изреель, на постоялом дворе или в странноприимном доме, где по причине небывалого наплыва путников было настоящее столпотворение, все суетились и кричали как сумасшедшие, хотя, по правде говоря, крику было больше, чем суеты: уже очень скоро глаз и ухо привыкали к толчее и гомону, так что сначала угадывалось, а потом и подтверждалось, что в постоянном и беспрестанном коловращении людей и животных в четырех стенах постоялого двора есть бессознательное и стихийное стремление к упорядоченности – в точности как в растревоженном муравейнике, обитатели которого лишь на первый взгляд мечутся и снуют взад-вперед без цели и смысла. Так или иначе, трем семействам выпала удача устроиться на ночлег не под открытым небом, а под навесом: мужчины улеглись по одну сторону, женщины с детьми – по другую, впрочем, все это произойдет потом, когда спустится ночь и постоялый двор со всеми своими постояльцами погрузится в сон. А до тех пор женщинам надо было еще браться за стряпню, набирать воды из колодца, а мужчинам – расседлать, разнуздать, развьючить ослов, напоить их, да притом улучить такой момент, когда у водопойной колоды не будет верблюдов, потому что те, хоть и было их всего два, выпивают все до последней капли, так что приходится раз за разом без счета таскать воду, снова и снова наполняя колоду, и немало времени пройдет, прежде чем верблюды наконец утолят жажду. Справившись с этим, задав корму ослам, сели ужинать и сами путники – первыми, как водится, мужчины, а уж потом женщины, ибо они по самой природе своей – существа вторичные, достаточно в очередной и не в последний раз вспомнить прародительницу нашу Еву, сотворенную во вторую очередь, после Адама, да еще и из его ребра, так что признаем: есть на свете такое, что понимаешь тогда лишь, как припадешь к истокам.