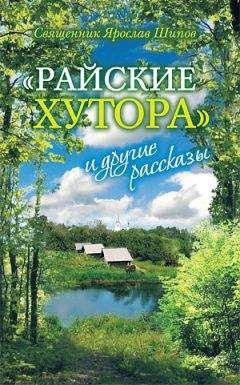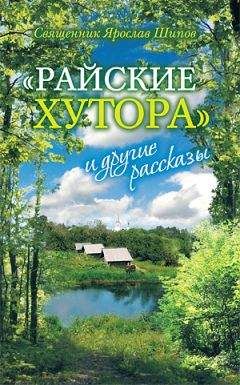— Да как же, — интересуюсь, — он летом в валенках ходит — стопчутся ведь?
— А старчик, — говорят, — почти и не ходит — ноги у него сильно болят.
Ладно. Захлопнул дверь.
— Как, — спрашиваю, — зовут?
Он только улыбается. Стало быть, еще и не слышит. Кричу:
— Как вас зовут?
— Отец Симеон… Да, отец Симеон… Семён, короче.
— Так вы монах?
— Монах, монах… Пострижен давно… еще тайно, тогда нельзя было, я ведь инженером работал, это я теперь вот в подряснике…
Тут водитель впервые со вчерашнего вечера заговорил. Он сказал, что машина легкая и словно летит, а вот когда в Москву ехали с грузом досок, она была тяжелая и не летела… Доски эти, предназначенные для чьей‑то дачи, выручили меня: я воспользовался оказией, чтобы захватить из Москвы книги и кое‑какие вещи, — все это тряслось теперь в кузове. А главное — лаврская братия снабдила меня алюминиевыми нательными крестиками: крестить приходилось до ста человек ежемесячно.
Отец Симеон тем временем начал что‑то тихонечко напевать. Мы — свое, а он поет все громче, громче. и слышу я — это молебен преподобному Сергию Радонежскому. Присоединился, отслужили молебен. Без Евангелия, правда, потому что хоть и могли по памяти преподобническое прочитать, но в кабине не встанешь, а сидя, известное дело, неблагоговейно, а Потому и непозволительно…
А старик дальше: тропари Никону, Михею и прочим Радонежским святым. Пел он так почти до Переславля Залесского. Ненадолго притих, а в Переславле возобновился с другими угодниками Божиими. Пропели еще молебен святому благоверному князю Александру Невскому, который был крещен в этом славном селении. Дальше указатель: «До Ростова столько‑то километров». Стали поминать Ростовских святых: «Святителю отче Димитрие, моли Бога о нас», «Святителю отче Арсение, моли Бога о нас»… Многих вспомнили. Поворот на Борисоглебское. Тут, понятное дело, помолились князьям — страстотерпцам и, конечно, преподобному Иринарху.
Засим — Ярославль с Ярославом Мудрым. Причем в эту пору почитание знаменитого князя еще не было восстановлено, однако отец Симеон сообщил, что Ярослав Мудрый в синодальный период по какой‑то несправедливости из месяцеслова выпал, но остался в Киевском патерике и в службе Торжества Православия, а потому непременно вернется в святцы. Через несколько лет именно так все и свершилось.
Вспомнили еще нескольких Ярославских святых, а потом пошло — поехало: то знак «река Обнора» — и все Обнорские, то «река Нурома» — и Нуромские, а заодно Комельские, Спасо — Каменские, Сянжемские… На всякий дорожный указатель у отца Симеона тропари, кондаки, величания, молитвы, а иной раз и молебны. Вологду прошли в песнопениях непрестанных и полногласных и завершили славлением преподобного Димитрия Прилуцкого.
Потом был небольшой перерыв. Водитель прошептал: «Ну, вы даете», — и более не вымолвил ни слова. Недолго мы ехали в тишине: у поворота на Тотьму начали вспоминать Тотемских святых и вспоминали, пока город не остался далеко позади. У села Мар куша спели преподобному Агапиту и наконец затихли. Я сказал, что следующим будет Христа ради юродивый Прокопий Устьянский, но до реки Устьи мы сегодня не доберемся.
А отец Симеон хотел помолиться еще Белозерским, Кирилловским, Череповецким — целому сонму святых: «Потому что у нас, куда ни стань, везде свято место — земля такая».
Завернули в районный центр, и пока я ходил в магазин за продуктами, старый монах успел в валеночках своих дойти до почты и позвонить монастырским братиям, «чтобы обозначиться». Ночевали у меня в деревне.
Недолго, однако, радовался я своему диковинному постояльцу: утром примчался батюшка из соседней епархии, забрал отца Симеона, и отправились они Далее по святой земле страдающего Отечества.
А водитель грузовика, встречая меня, всякий раз таинственно повторял:
— Все‑таки мы тогда как‑то странно ехали — машина летела, словно даже не касалась асфальта.
Отцу Игнатию отпуск выпал сразу после Крещенья. Летом в монастыре отпусков не давали — летом вся округа заполонена дачниками, да еще каждый день туристы на огромных автобусах, так что народу в храме битком, на исповедь — очереди. Кроме того, летом стройка, ремонт: тут красить, там копать — дня не хватает. Потому отпуска — только зимой.
— Езжай, куда хочешь, — благословил настоятель, — деньги у казначея возьмешь.
Отец Игнатий поблагодарил, но сказал, что ехать ему некуда.
— А раньше ты куда ездил?
— Домой, к сестре.
— Ну!
— Она ведь померла. Помните, мы молились о упокоении рабы Божией Евфросинии?..
Настоятель вспомнил:
— Было такое.
— Племянники дом продали, так что ехать теперь мне некуда.
Прошло еще несколько дней: отец Игнатий по-прежнему ходил на братский молебен, пел на клиросе и про отпуск не думал. А настоятель думал: он был заботлив, но молод и не понимал, как можно отказываться от возможности сменить обстановку, отвлечься, отдохнуть; он объехал все святые места земли, теперь осваивал несвятые и хотел, чтобы иеромонах Игнатий, старейший насельник монастыря, хотя бы выспался. И по молитвам отца настоятеля дело сдвинулось.
Помог слесарь Володька. Вообще‑то он был кандидатом наук и занимался прежде ракетами «воздух-воздух», из‑за чего, собственно, в процессе разорения страны и пострадал. Помучившись без работы, уехал в деревню и подвизался теперь на ниве монастырского водоснабжения.
Володька был родом из Псковской области и каждую зиму ездил туда за рыбешкой, чтобы подкормить братию перед Великим постом.
— Поедешь рыбачить, — сказал отцу Игнатию настоятель.
— Как благословите, но обязан признаться, что не умею, — возразил старый монах.
— Почему не умеешь? Ты же в молодости был этим…
— Кем?
— Ну… моряком.
— Матросом. Старшим матросом на эскадренном миноносце. Палубу драил, а рыбачить не довелось. Так что не умею нисколько.
— Вот и плохо, вот и не прав: апостолы умели, а ты отказываешься… Ну да ладно: Володька научит, — и указал на водопроводчика.
— Так то ж апостолы… У меня и облачения должного нет.
— Кладовщик выдаст. А у келаря возьмете сухой паек на неделю — к Сретенью возвращайтесь.
Кладовщик принес валенки, тулуп, ватные штаны, шапку — ушанку и теплые рукавицы:
— В таком виде, батюшка, вы будете натуральнейший Дед Мороз.
Потом сходил еще раз, чтобы добавить серебристый ящик.
— А это что? — поинтересовался отец Игнатий.
— Вам, сидеть, — отвечал кладовщик, — меня за этим специально в рыбацкий магазин посылали.
Под утро отслужили с братией молебен о путешествующих, келарь загрузил в машину продукты, и отпуск начался.
Машина у Володьки была большая — иностранный пикап. Летом он снимал с кузова крышу и возил, как в грузовичке, мешки с цементом, кирпичи, водопроводные трубы, а сейчас кузов был тщательно вымыт, застелен линолеумом и закрыт.
— Куда едем‑то? — спросил батюшка, когда выехали на трассу.
— Город Себеж — слыхали когда‑нибудь?
— О! — удивился отец Игнатий. — Конечно, слышал: отец мой во время войны ногу там потерял. Как начнет протез прицеплять, сердится: «Съезди в Себеж, поищи ногу!» Протез неудобный был, надоел ему… А я так и не сподобился…
— Ну, может, теперь найдем, — улыбнулся Володька.
— Да она уже лет тридцать отцу без надобности… нет, тридцать пять…
— У нас там, где ни копнешь — всюду косточки. Рельеф сложный: озера, реки, ручьи, холмы, овраги, перелески, — там сотню танков в бой не бросишь, да и бомбить — не разберешься кого. Так что больше — лоб в лоб…
Перед Себежем свернули на грейдер. Миновали несколько полуживых деревень и наконец добрались до последней, где дорога заканчивалась. Володька предварительно связывался с кем‑то из земляков по телефону, и потому возле избы было расчищено место для автомашины, а сама изба слегка протоплена. Затопили еще разок — и русскую печь, и голландку, принесли воды и стали обустраиваться.
На стене в рамочке под стеклом висела свадебная фотография Володькиных родителей, которые теперь состарились, жили у сына и, случалось, захаживали в монастырь на богослужения.
Протопив печи, рыбаки помолились и улеглись спать. Постели были холодноваты, однако вовсе не это обстоятельство помешало отцу Игнатию выполнить благословение настоятеля и отоспаться: большая серая крыса, поселившаяся в пустовавшей избе и считавшая себя единоличной хозяйкой, совершенно не ожидала гостей и всю ночь встревоженно металась по комнатам. Володька зажигал свет — крыса исчезала, гасил — и она снова начинала топать, чем‑то шуршать, что‑то грызть…
Затихла крыса, когда рассвело. «Всякое дыхание Да хвалит Господа», — оценил батюшка прошедшую ночь.