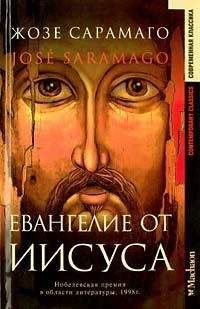Наутро отправился Иисус к дому Лазаря не столько затем, чтобы проститься, сколько чтобы подать своим приходом благосклонный знак того, что вернулся в общество людей. Но Марфа сказала, что брат уже ушел в синагогу. Тогда Иисус и двенадцать его спутников двинулись по дороге на Иерусалим, Магдалина же и остальные женщины проводили их до городской черты, там остановились, маша вслед уходящим, которые, однако, не узнали об этом, ибо так ни разу и не обернулись. Небо хмурилось, обещая скорый дождь, и оттого, наверно, не было у них ни встречных, ни попутчиков – те, у кого не было важных и неотложных причин идти в Иерусалим, предпочли дома посидеть. Но тринадцать шагают по этой не просто безлюдной, а пустынной дороге, и наперегонки с ними катятся у них над головами, над вершинами гор низкие темно-пепельные тучи, словно задались целью раз и навсегда соединить небо и землю, влить металл в изложницу, слить самца и самку, вогнать шип в паз. Когда, однако, подошли к городским воротам, убедились, что у них – всегдашняя толчея и по-прежнему многолюдно, и придется долго терпеливо ждать, пока продерешься ко Храму. Но они ошиблись: при виде этих тринадцати – босых, обросших бородами, вооруженных тяжелыми суковатыми посохами, в тяжелых темных плащах поверх хитонов, помнивших, по виду, сотворение мира, – испуганная толпа отхлынула и раздалась в стороны, и люди спрашивали друг друга:
Кто это? Кто это у них впереди? – и не умели ответить, пока кто-то из галилеян не сказал: Это Иисус из Назарета, он называет себя «Сын Божий» и творит чудеса. А куда это они? – раздались вопросы, а поскольку ответить на них можно было, лишь последовав за Иисусом и его людьми, то многие поспешили вдогон, так что к паперти Храма подошло не тринадцать человек, а тысяча, но, впрочем, толпа благоразумно остановилась поодаль, ожидая, что любопытство ее будет сейчас утолено. Иисус, направившись туда, где сидели менялы, сказал своим: Вот зачем мы здесь – и тотчас принялся крушить и переворачивать столики, расталкивая и колотя продающих и покупающих, отчего поднялся шум и грохот столь невообразимые, что безнадежно потонули бы в них слова, им произносимые, если бы по необъяснимой странности не стал голос его звучней бронзового колокола: Дом мой есть дом молитвы, вы же обратили его в вертеп разбойничий, – и продолжали лететь наземь столы меновщиков, рассыпались по земле столбики монет, к вящей радости иных зевак, бросившихся собирать эту манну. Ученики вслед за Иисусом принялись опрокидывать скамьи продающих голубей, так что обретшие свободу птицы разлетелись по всему преддверию Храма, суматошно закружились над жертвенниками, от пламени которых избавил их неведомый спаситель. Прибежали храмовые стражники с дубинками, чтобы схватить или же выкинуть вон осмелившихся нарушить порядок, но, на свою беду, столкнулись с тринадцатью дюжими галилеянами, которые посохами повергли наземь самых отважных, остальным же кричали:
Подходите! Подходите все, сколько вас ни есть! – и били стражей, и в щепы разносили столы и скамьи, и вдруг появился неведомо откуда зажженный факел, и малое время спустя загорелись палатки и лотки, и рядом с дымом жертвенных всесожжении ударил в небо еще один столб дыма, и кто-то крикнул: «Позовите легионеров», будто забыв – римляне по закону не могут входить во Храм, что бы там ни творилось. Храмовым стражам на выручку поспешили другие, уже не с дубинками, а с мечами и копьями, и кое-кто из меновщиков и продавцов голубей присоединился к ним, рассудив, что негоже предавать в чужие руки защиту собственных интересов, и военное счастье мало-помалу стало переходить на них, и – в точности как в крестовых походах – если и свершалась эта битва по Божьей воле, то не похоже, чтобы сам Бог способствовал в должной степени успеху своих сторонников и приверженцев. Так развивались события, когда на верхние ступени паперти вышел из храмовых врат первосвященник в сопровождении старейшин и книжников, причем можно сказать, что вышел он поспешно, и, возвысив голос, который все равно был совершеннейшее ничто по сравнению с голосом Иисуса, сказал: Дайте им уйти, а если сунутся еще раз, изрубим на куски и вышвырнем вон, как плевелы, чтобы не заглушали пшеницу. Андрей, бившийся рядом с Иисусом, сказал ему: Хоть ты и сказал, что пришел не мир принести, но меч, мы теперь знаем, что пастуший посох – ничто против меча. Иисус же ответил: Все дело в том, чья рука держит меч, чья – посох. Что же мы будем теперь делать? – спросил тот. Вернемся в Вифанию, ибо не меча нам не хватает, но руки. Они отступили в порядке, не расстроив рядов, сдерживая выставленными посохами натиск толпы, улюлюкавшей и свистевшей, но не решавшейся ни на что более серьезное, и, спустя небольшое время выбравшись из Иерусалима, пустились в обратный путь. Все были утомлены, иные – побиты.
Когда вошли в Вифанию, то заметили, что выглядывающие из-за дверей соседи смотрят на них с какой-то жалостливой неприязнью, но отнесли ее за счет того бедственного состояния, в какое привело побоище во Храме их лица и одежду. Когда свернули в ту улочку, где стоял дом Лазаря, ясно стало, что дело не в том, – они сразу поняли, что стряслась беда. Иисус, обогнав остальных, бегом вбежал во двор, и люди со скорбными лицами расступались, давая ему дорогу, а из дома доносились плач и причитания. Брат мой! – услышал он голос Марфы, и тотчас раздался голос Марии: Брат мой!
На полу, на циновке увидел он Лазаря – тот покойно лежал на спине, сложив руки, и казалось, спит, однако не спал. Он умер. Чуть ли не всю его жизнь сердце грозило остановиться, но потом он излечился, что могла засвидетельствовать вся Вифания, а вот теперь лежал мертвый, неподвижный, как бы высеченный из мрамора, недоступный, словно уже вошел в вечность, но уже очень скоро из глубин его смерти поднимутся на поверхность первые признаки распада и тлена, чтобы сделать тоску и ужас оставшихся жить еще более невыносимой. Иисус, точно ему единым взмахом клинка подрубили сухожилия, рухнул на колени и еле выговорил сквозь рыдания: Как же так, как же это так?! – невнятные слова, в которые всегда облекается мысль наша при виде непоправимого, вопрос, который всегда задаем мы всем, кто стоит рядом, отчаянная и бесплодная попытка отодвинуть миг, когда все равно придется принять истину: да, мы хотим понять, как же это все было, мы все пытаемся еще поставить на место смерти жизнь, на место того, что есть, то, что могло бы быть. Со дна захлебывающегося и горького плача Марфы всплыли ее слова, обращенные к Иисусу: Окажись ты в этот час рядом, брат мой был бы жив, ибо я знаю, что Бог делает все, что ты ни попросишь: очищает прокаженных, возвращает зрение слепым, слух – глухим, дар речи – немым и творит любые другие чудеса, что живут в твоей воле и ждут твоего слова. Иисус сказал ей: Брат твой воскреснет, и ответила Марфа: Знаю, что воскреснет он в воскресении последнего дня. Иисус поднялся на ноги, почувствовал, как безмерной силой исполнился его дух, – в этот высший час он мог свершить и исполнить все, мог изгнать смерть из этого тела, мог вернуть его к бытию во всей его полноте – со словами и с движениями, со смехом, но и со слезами, но без страданий и мук; мог сказать: Я семь воскресение и жизнь, тот, кто верит в меня, оживет, и, спроси он Марфу: Ты веришь в меня? – она ответила бы: Верю, что ты Сын Божий, который должен был явиться в мир, – и, стало быть, все необходимое – сила, могущество, воля явить их – было уже обнаружено, приготовлено, расставлено по местам, и Иисусу оставалось лишь устремить взгляд на брошенное душою тело, простереть над ним руки наподобие моста, по которому она в него вернется, и сказать: Лазарь, встань! – и Лазарь встал бы, ибо так хотел Бог, но в самую последнюю минуту – вот уж истинно последнюю и предельную – Мария Магдалина положила ему руку на плечо и произнесла такие слова: Никто на свете не согрешил столь тяжко, чтобы умереть дважды,. И Иисус опустил руки и вышел, заплакав.
* * *
Смерть Лазаря, будто ледяной ветер, единым дуновением погасила тот бранный пыл, что Иоанн возжег в душе Иисуса, в которой за неделю тягостно нескончаемых размышлений и нескольких кратких мгновений действия служение Богу и служение людям слились и сплавились воедино, создав нечто цельное. Когда минули первые скорбные дни, когда повседневные заботы вкупе с обыденными привычками стали уже понемногу занимать прежнее свое место, с которого вытеснил их ужас смерти, порою еще напоминавший о себе краткими, но острыми вспышками боли, пришли к Иисусу Петр и Андрей спросить, что думает он делать дальше – разошлет ли их по градам и весям проповедовать, пойдут ли они снова на Иерусалим, – ибо ученики уже сетуют и ропщут на затянувшееся бездействие, твердя, что так более продолжаться не может и не затем оставили они свои семьи, домы и труды, чтобы предаваться праздности. Иисус глядел на Петра и на Андрея так, словно не различал их лиц среди образов, теснившихся пред мысленным его взором, слушал так, словно с усилием выделял голоса апостолов из звучавшего у него в ушах хора бессвязных криков, и наконец после долгого молчания велел подождать еще немного – он должен еще подумать, ибо чувствует, что должно вскоре произойти такое, что решит определенно и окончательно судьбу их, жизнь их и смерть. И еще сказал, что спустя небольшое время присоединится к ним, живущим в окрестностях Вифании, и уж этого не смог уразуметь ни Петр, ни Андрей: как же это он оставит осиротевших сестер, и зачем это нужно сейчас, когда ничего еще не решено. Не надо тебе возвращаться к нам, побудь пока в доме Лазаря, сказал Петр, того не зная, что душу Иисуса ежеминутно, днем и ночью рвут, и терзают клещи двух мук – долга перед людьми, все бросившими, чтобы следовать за ним, и пребывания в этом доме, рядом с сестрами, похожими друг на друга и враждебными друг другу, как лицо и его отражение в зеркале. Лазарь оставался в доме и никуда не уходил – присутствие его ощущалось и в суровости Марфы, не простившей сестре, что та вмешалась и не допустила воскрешения, не простившей и Иисусу, что тот отказался воспользоваться своим богоданным могуществом; и в потоках слез, проливаемых Марией, которая, не желая, чтобы когда-нибудь настигла брата ее вторая смерть, воспротивилась тому, чтобы он жил, и теперь до гроба была обречена казниться, что не спасла его от первой. Постоянное присутствие его ощущал и Иисус в виде чего-то непомерно огромного, заполнившего и заполонившего все пространство, все уголки его смятенной души, уже не раздвоенной, а расчетверенной – ибо согласен был с тем, что сказала Мария, но винил ее в этом; ибо понимал мольбу Марфы, но осуждал ее за это. И ему казалось, будто четверка бешеных коней рвет его душу на четыре части; будто четыре якорные цепи, накручиваясь на четыре лебедки, по волоконцу раздирают ее; будто Бог и Дьявол, ухватясь за нее с двух сторон, божественной и дьявольской забавы ради, перетягивают, как канат, измочаленные ее остатки. К дверям дома, что был некогда домом Лазаря, подходили убогие в струпьях и язвах, молили исцелить их страждущую плоть, и Марфа прогоняла их, как бы говоря: Не было спасения брату моему – не будет же и вам исцеления, – и те уходили, чтобы вернуться погодя, позже, но вернуться непременно и в конце концов добиться Иисуса, который очищал их и отсылал прочь излеченными, но никогда не говорил: Покайтесь, ибо излечиться – не то ли самое, что родиться заново не умирая, а у новорожденного грехов нет, и каяться ему в содеянном нет нужды, поскольку ничего сделать он еще не успел. Но Иисус, побуждаемый милосердием своим к возрождению человеческой плоти, не во грех ему будь сказано, неизменно чувствовал потом в душе некий неприятный осадок, горькое и едкое послевкусие, ибо чудесами своими мог лишь на известный срок отдалить неизбежный упадок и распад и знал, что тот, кто сегодня ушел от него здоровым и веселым, завтра придет снова, с плачем жалуясь на новые недуги и хвори, от которых уже не будет спасения. Печаль его достигла такого предела, что Марфа в сердцах сказала ему однажды: Смотри только не умри у меня, второго Лазаря мне не пережить, Магдалина же во тьме .и тишине ночи, прячась под простыню, как прячется в нору раненый зверь, чтобы там, втайне ото всех, скулить и стонать без помехи, шептала, лежа рядом с Иисусом: Я нужна тебе сегодня, как никогда прежде, но ты, теперь там, куда мне не дотянуться, ты затворился за дверью, открыть которую превыше сил человеческих, а Иисус, который отвечал Марфе: В смерти моей заключены будут все смерти Лазаря, он вечно будет умирать и никогда не воскреснет, – просил и молил Марию: Даже если не в силах ты войти в те двери, не отходи от меня, протягивай ко мне руку, даже если не будешь видеть меня, а иначе я забуду о жизни или она меня забудет. Минуло еще несколько дней, Иисус ушел к ученикам, и Магдалина с ним. Я буду смотреть на твою тень, если не хочешь, чтобы смотрела на тебя, сказала она. Я хочу быть там, где будет моя тень, раз на нее будешь смотреть ты, отвечал ей Иисус. Они любили друг друга, и по дороге звучали слова, подобные этим, и не только потому, что они были искренни и красивы – если могут быть слова разом и красивы и искренни, – но еще и потому, что уже приближалось время теней и нужно было, пока они еще вместе, начинать привыкать ко тьме окончательной разлуки.