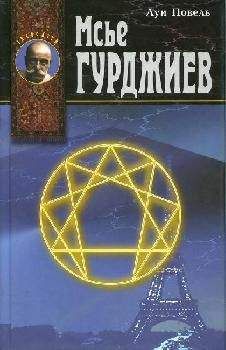РАССКАЗ Рома Ландау и свидетельство А. Абдуллы были оспорены г-жой Александрой Давид-Неэль, которая в статье, помещенной в «Нувель литтерер» от 22 апреля 1954 года, заявила, что бурятский лама по фамилии Дорджиев никакого отношения к Гурджиеву не имеет. Противоположное мнение высказывается в книге К.М. Паникара «Азия и западное владычество», где говорится о бурятском монахе Дорджиеве, который защищал в Лхасе интересы русского царя, а затем занялся распространением своих взглядов в Фонтенбло. Книга Р. Ландау, одну из глав которой мы привели, вышла в свет еще при жизни Гурджиева, и тот не счел нужным что-либо против нее возразить.
Что же касается «Постскриптума», то единственным источником автора были свидетельства хорошо известного в научных кругах Жака Бержье. Впоследствии он в одной из радиопередач повторил имеющиеся у него сведения о связях Георгия Гурджиева с «Обществом Туле». А в майском номере журнала «Медиум» за 1954 год поделился воспоминаниями о том, как в концлагере Маутхаузеи имел беседу с несколькими немецкими офицерами, замешанными в заговоре против Гитлера: зная, что их ждет смертная казнь, они решили поделиться с ним всем тем, что им было известно о Гурджиеве.
Однако мсье Бержье так и не смог представить никаких фактических данных и документов, столь важных для любого историка и способных подвести итог всем дискуссиям по этому поводу[4].
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПАСТБИЩЕ ДЛЯ ИДИОТОВ
Розы превращаются в жаб. Слова, доступные для идиотов. Салонные игры. Расскажите мне о человеке
КАК я уже говорил, моей задачей не является изучение личности Гурджиева. Она и не в том, чтобы представить и прокомментировать все стороны его учения как нечто завершенное. Мне бы просто хотелось дать читателю почувствовать и понять, что происходит с теми, кто сталкивается с Учением, и я надеюсь, что мне в этом поможет соединение в одной книге свидетельств различных людей. В то же время я считал своим долгом набросать, хотя бы легкими штрихами, портрет самого Гурджиева. Мне следует также, прежде чем перейти к основному содержанию книги, наметить основные темы Учения. Постараюсь отнестись к этой задаче чрезвычайно бережно.
Гурджиев считался — и считается до сих пор среди интеллектуалов — человеком, соотнесенным с различными тайнами, связанными с жизнью материи, духа, законами космоса и т. д. Возможно, он достиг того «первоначального и абсолютного знания», о котором говорят «традиционалисты», и в частности Рене Генон. Успенский тоже имеет это в виду и в своей книге «Фрагменты неизвестного Учения» уделяет большое место изложению теорий, вытекающих из этих тайн и дающих вполне законченное объяснение структуры мироздания. Я не могу себе позволить разбирать этот аспект мысли Гурджиева, поскольку он фактически никак не отразился на опыте почти ни одного из его учеников. Наш опыт находился на совсем другом уровне — психологическом (я подразумеваю под этим психологию, очень далекую от той, которая царит в настоящее время на современном Западе). Нам предстояло заняться изучением самих себя, что могло длиться, долгие годы и было бы вполне достаточно для нашего пробуждения. При этом мы вовсе не имели в виду изучение теорий, о которых уже шла речь выше. Но даже если бы мы о них услышали, то сразу бы поняли, что не следует попадаться в эту ловушку, то есть рассматривать их как наше сегодняшнее благо. Речь могла идти лишь о будущем благе, более того, очень далеком. Когда мы поднимемся на принципиально новую ступень, а это случится не завтра. Когда рак на горе свистнет. После дождичка в четверг. Когда свершится чудо пробуждения и мы выйдем из состояния бессознательного, в котором мы находимся и которое начинаем осознавать как таковое. Единственное, что мы действительно поняли, так это рассуждения о нашем повседневном поведении. Это образовывало для нас Учение, а г-н Успенский витал в облаках со своими «законами трех», «принципами гаммы» и «таблицей гидрогенов». Как уже было сказано, я считаю нужным передать лишь высказывания о Гурджиеве, которые определяли наши усилия и опыты дебютантов. Эти высказывания кажутся очень простыми, но не нужно доверять этой простоте. Простота предполагает либо беспредельную лень, либо бесконечную гениальность, а от трюизма до откровения — всего один шаг. Нам казалось, что мы открываем ошеломляющие истины. Между тем, едва мы сами пытались их сформулировать, чтобы удовлетворить чужое любопытство или блеснуть в обществе, все становилось трюизмом, подобно тому как розы в старых сказках превращаются в жаб, когда их срывает рука дурного человека. То, что для лас явилось откровением, тут же меркло, едва мы начинали рассуждать о нем вслух.
Я должен донести до читателя лишь то, что в Учении обращено к дебютантам (да и знал я лишь дебютантов), то есть, по словам Гурджиева, идиотам. Гурджиев произносил это слово с трудно описуемой смесью презрения и доброты. На пастбище для идиотов любые всходы приносят разочарование. Когда я буду рассказывать о том, что мы услышали, слова, которые были для нас откровением, превратятся для вас в трюизм. Тем не менее обычная порядочность требует от меня представить на ваш суд именно эти всходы. Итак, я буду излагать главные темы Учения так, как они поразили умы гурджиевских учеников, так, как они сохранились в моей памяти.
Задайте своим друзьям простой вопрос: «Знаете ли вы человека?» Не давайте никаких пояснений. Ваш вопрос будет понят. На него попытаются ответить (Идею этой «игры» я взял у Берти Жилу).
Знаю ли я человека?
Едва вопрос сформулирован, все определения сразу исчезают из моего сознания. У меня нет потребности выяснять, о ком идет речь. О человеке социально значимом? Особенно образованном? Исключительно храбром? Умном? Эти различия в одно мгновение теряют свое значение (если только вопрос был задан авторитетно, в хорошо выбранный момент, когда сознание ваших друзей готово к тому, чтобы воспринять его). Более того: различия эти кажутся смехотворными. Мне было бы стыдно делать вид, что я им придаю хоть какое-то значение. Я замолкаю. Я ищу и сразу же ощущаю разницу, которая отделяет меня от Человека. Я не очень хорошо знаю, что такое человек, но остро чувствую, что это понятие существует. Оно имеет вес, плотность, стабильность и сияние, которыми я не обладаю. Разумеется, я себе не формулирую эти вещи. Я ищу. Все происходит так, словно я мысленно перебираю всех, кого знал, пока наконец не обнаружу того, кто действительно является значительным.
Сопоставьте ответы. У вас есть имена и описания; посмотрите, что общего среди упомянутых людей, среди сделанных описаний. Социальная принадлежность, профессия и т. д. особого значения не имеют. Общий знаменатель не здесь. Вам могут сказать: «Может быть, это был не совсем человек, но…» — и вы мимоходом отметите эту внезапную и удивительную проницательность, эту способность взвешивать живые существа с уверенностью, которую можно было бы позволить лишь Божественным весам. Вы поразитесь, но все опрошенные, независимо от их воспитания, профессии, религиозности, философских убеждений, принадлежности к той или другой партии, когда нужно было определить человека, казалось, понимали, о чем идет речь.
— У него было прекрасное лицо, или, скорее, чувствовалось, что он в ответе за свое лицо, и это вызывало ощущение красоты. — Чувствовалось, что он мог во всех ситуациях рассчитывать на самого себя. — Все, что он делал, действительно исходило от него. Мы очень редко управляем своими действиями. Это они управляют нами. Действуем не мы: что-то действует через нас. А он отвечал за свои поступки. — Он принял доктрину, но не зависел от нее. Подчиняясь ей, он смотрел на себя так, как наблюдают за мотором, чтобы убедиться, что тот работает без перебоев. Он возвышался над самим собой, наблюдал себя, контролировал. Он был свободен. — У него никогда не было недостатка в дальновидности. Он всегда сохранил дистанцию во взгляде на себя, на окружающее, на других людей. — Мало сказать, что у него была воля. У него была воля к преодолению, всегда одинаково сильная. — Он был твердым и крепким. Человеческое существо может быть и губкой, и гранитом. Его существо напоминало гранит. — Его энергия не была навязана ему извне. Это была субстанция, которую он сконцентрировал в самом себе и пользовался ею по своему усмотрению. — Ни воображение, ни страх не были властны над ним. — Он не выкладывался целиком в своих речах. Он был больше своих слов. — Он присутствовал в том, что говорил, думал, чувствовал, делал. Он был там, где он был. Не его тень, но он сам. — При взгляде на него становилось ясно, что существование благо.
Вы быстро придете к этим приблизительным оценкам. Они приподнимают завесу над определенным представлением о Человеке почти сверхъестественном, которое все мы несем в себе. Как раз здесь и начинается учение Гурджиева.