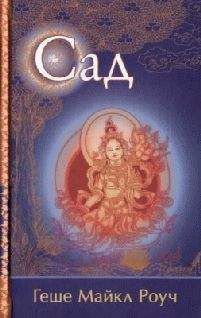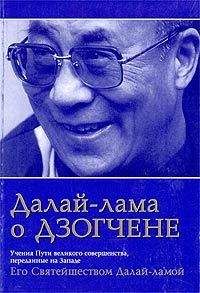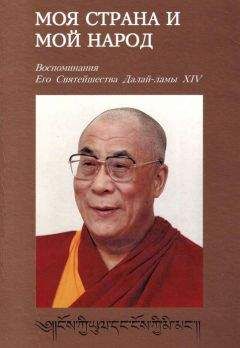Росла моя радость, но вместе с ней усиливалась и жажда, ведь я знал, что обучение мое не было закончено. Как конь, знающий, где вода, чувствует, что она все ближе, ближе и ближе, и все ускоряет бег, так и я, зная, что могу достичь своих целей, был теперь одержим желанием достичь их побыстрее: я жаждал совершенства; я знал, что смогу найти свою мать, я знал, что она уже недалеко; внутреннее чувство подсказывало мне, что я совсем близок к тому, чтобы вновь встретиться с златовлаской; тот же инстинкт говорил мне, что и конец моих поисков, и обретение всего того, что я искал, и моя мать, и наставники Сада, и златовласка непременно сойдутся все вместе, не заставив себя долго ждать. Я взял и снова отправился в Сад, решив, что пришел уже этот счастливый день, точнее, эта ночь.
Я точно запомнил дату, когда это произошло, и никогда потом ее не забывал. Это было в самый разгар лета, двадцать восьмого июля. Я вошел в Сад поздно ночью, когда земля уже успела остыть от дневного пекла, и уселся на землю у скамьи под чинарой, упиваясь душистыми ароматами легкого степного ветерка, постепенно забывая неподвижный испепеляющий воздух летнего полуденного ада, когда безжалостное солнце обжигает лицо, сушит ноздри и глаза.
Устроившись поудобней, я стал готовиться к созерцанию, медленно и с удовольствием выполняя все ступени разминки, как будто натягивал старую мягкую перчатку или начинал разговор со старым верным другом. Разминка подходила к концу, когда я почувствовал движение у калитки Сада, а вслед за этим увидел маленькую фигурку, которая тихо перемещалась вдоль кустов бордовых пустынных роз у северной стены.
Фигура поклонилась одному из кустов, как бы совершив безмолвную молитву, а затем продолжила движение.
Сначала показалась монашеская голова правильной формы - коротко стриженные черные волосы были похожи на бархатную шапочку, - а затем монашеская одежда и тело. Ничего еще толком не разглядев, я оказался на ногах, в глубоком поклоне, с ладонями, сложенными у груди.
Я поднял глаза почти со страхом, с благоговейным трепетом даже, ибо передо мной был Гаутама, Будда собственной персоной, и, хотя ничто в его облике не соответствовало моим ожиданиям, у меня не было никаких сомнений и никаких вопросов о том, Кто это был.
Невысокого, скорее, среднего роста и худощавого телосложения, Он словно застыл в едва уловимом поклоне скромности, которая казалась почти застенчивостью. Каждый его жест был прост и изящен, как проста и изящна была и вся его внешность и монашеское одеяние: чистое и ладное, оно естественно и незамысловато облегало его простую фигуру, видно, хорошенько привыкнув к ней за свою долгую жизнь. Никто не смог бы определить его возраст, я бы навскидку дал ему лет двадцать семь - двадцать восемь, но его лицо совершенно сбивало с толку. Оно тоже было простым и кроме скромности производило впечатление простодушной честности. У него были добрые, открытые, почти немигающие глаза, часто смиренно опускающиеся долу. В его мягком и умном лице, в легкой и милой улыбке сквозила какая-то тихая радость и человечность. Его кожа и все тело были такими же, как у вас или у меня, вокруг головы не светился нимб, и вообще никаких внешних чудесных проявлений вроде бы не наблюдалось, только вот глаза его лучились каким-то особенным чистым теплом, такое же тепло исходило от его нежных рук, и вообще весь он, от макушки до скромных босых ног, излучал доброе тепло. Это тепло распространялось по Саду, совершенно переполняя все мое существо, так что я еще раз поклонился Тому, который, похоже, не хотел да и не нуждался ни в каких поклонах.
- А ты присядь, - тихо сказал Гаутама, - пожалуйста, присядь.
Я машинально опустился на траву перед скамейкой, там же, где стоял, и еще раз поклонился сидя, молясь о том, чтобы он сел на скамейку. Он так и поступил, слегка поколебавшись, как будто был не уверен, что достоин такого трона. Гаутама опустился на скамью тихо и грациозно и стал смотреть вниз на траву перед собой, почти смущенный, совсем как девица на выданье наедине с незнакомым мужчиной. Посидели, помолчали.
Через какое-то время он вытянул вперед руку, и я увидел, что по дороге сюда он сорвал одну из красных роз. Он молчал, он просто держал передо мной розу, как будто предлагая мне взглянуть на нее, что я и сделал. Ни слова не было произнесено между нами, я просто взирал на цветок, а куда смотрел Будда, я толком не знаю, ибо по-прежнему чувствовал такой благоговейный трепет, что не смел взглянуть ему в лицо.
Неожиданно он убрал розу, взял меня тремя пальцами за подбородок и медленно поднял мою голову так, чтобы наши глаза встретились.
- Роза, - сказал он и, вытянув вперед обе руки, теми же пальцами опустил мне веки, продолжая придерживать их в этом положении. Я представил в своем уме розу, безупречную красную розу.
Потом его пальцы снова открыли мне глаза, и у меня перед носом опять оказалась та же роза.
- Не думай «роза», - велел Гаутама.
Я старался не думать «роза», старался не смотреть на то, что было у него в руках. Затем вновь взглянул и на какое-то мгновение, в течение кратчайшей вспышки сознания, я сначала увидел некий красный силуэт на фоне ночной тьмы, затем взгляд мой перепрыгнул на что-то круглое и красное, насаженное на что-то длинное прямое и зеленое. Но уже в следующий момент роза стала «розой» - я снова смотрел на розу.
- Еще, - сказал Будда. Он дал мне взглянуть на розу, убрал ее, осторожно опустил мне веки и повторил: - «Роза».
Я представлял себе розу, в моих мыслях была форма и цвет розы, а потом он аккуратно открыл мне глаза, подняв веки, и снова сказал:
- Не думай «роза», - как и в прошлый раз протянув ее мне. Какое-то время перед моим взглядом мелькали формы и цвета, чтобы через мгновение снова стать розой в моем уме и в моих глазах.
Гаутама наклонился и коснулся земли, на пальце у него оказался маленький черный муравей. Он пересадил муравья на розу и позволил ему вскарабкаться на бутон. Муравей в панике заметался среди лепестков, перепрыгивая с одного на другой и обратно, то скрываясь в глубине цветка, то снова показываясь наружу, то почти вываливаясь с бутона на землю. Наконец Будда коснулся розой земли, и муравей с видом явного облегчения скрылся в густой траве.
Он спрятал розу в руке, и все, что я мог видеть, была тыльная сторона его ладони, затем поднес руку с розой к лицу, широко раскрыл свои глубокие карие глаза и, слегка наклонив голову вбок, взглянул, а потом и пристально вгляделся в розу сам. Мне были видны только его глаза, но в этих глазах я увидел какое-то чувство необычайного удовлетворения, было заметно, что эта роза вызывает у него огромную радость. Я понял тогда, что он видит нечто такое, что мне в моем нынешнем состоянии никак не увидеть: он испытывал некое состояние абсолютного блаженства, вызванное вещью, на которую вроде бы глядел и я, и вместе с тем я осознал, что это не могло быть той же вещью, на которую глядел я. Гаутама накрыл розу рукой и повернул ко мне свои сияющие глаза.
- На мгновение, - тихо проговорил он, - ты видел розу до того, как успел подумать «роза», и тогда перед тобой мелькали какие-то простые формы и цветовые пятна. Потом твой ум определял это как розу.
Несчастный муравьишка тоже ощущал те же самые формы и цвета, но чувствовал только опасность и смерть и думал только о том, как унести ноги. Когда я смотрел на те же цвета и набор простых форм, что и вы с муравьем, я видел всю бесконечность, ум всех и каждого живого существа, и испытывал к ним беспредельную любовь. - Гаутама замолчал и закрыл глаза, как будто давая время моему разуму осознать его слова и хорошенько их обдумать, прежде чем он продолжит. Затем он снова убрал руку, показав розу, открыл глаза и спросил меня: - Кто же из нас троих видел эту вещь правильно? Что это за вещь? Роза? Или Владыка Смерти? А может, человечность и совершенная любовь?
В его присутствии мне казалось, что у меня не мой прежний ум, а ум, принадлежащий какому-нибудь великому и просветленному святому, поэтому я не чувствовал ни колебаний, ни необходимости отвечать словами. Вещь, которая была в его руках, одновременно была и каждой из перечисленных им трех, всеми ими сразу, и ни одной из них. Для каждого из трех существ, которые глядели на нее, она действительно была тем, что они в ней видели; она была суммой всех вещей, которыми она казалась всем троим; она никогда не смогла бы стать тремя различными вещами одновременно. Она была тем, что каждый видел в ней.
Он снова накрыл розу рукой и сделал паузу. Потом наклонился и жарко зашептал мне:
- Теперь смотри на нее, как на вечность; смотри на нее, как на все человечество, и познай ту любовь, которую я сам испытываю к каждому из вас.
Он убрал свою руку в каком-то радостном возбуждении, почти в трансе, я с нетерпением взглянул в его ладонь и увидел - простую алую розу.
Я в разочаровании закрыл глаза и устало сказал только: