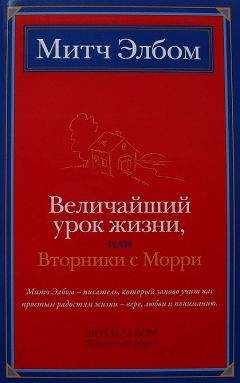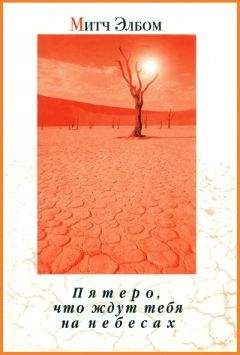К началу последнего года учебы в университете я прошел столько курсов социологии, что до степени бакалавра уже рукой подать. Морри предлагает мне написать дипломную работу повышенной трудности.
— Мне? — изумляюсь я. — О чем же я напишу?
— А что тебя интересует?
Мы перебираем множество идей и в конечном счете — трудно поверить — останавливаемся на спорте. И я берусь за годовой проект о том, как футбол в Америке задурманивает сознание людей, превратившись в священный обряд, чуть ли не в религию. Я понятия не имею, что проект этот станет прологом моей будущей карьеры. Я думаю лишь об одном: благодаря этому проекту каждую неделю я лишний раз встречусь с Морри.
И с его помощью к весне у меня готов 112-страничный проект, со сносками, приложениями, с результатами исследований и комментариями, аккуратно переплетенный, в кожаной обложке. Я приношу его Морри с гордостью спортсмена-юниора, одержавшего первую в жизни победу.
— Поздравляю, — говорит Морри.
Он листает проект, а я, улыбаясь, обвожу взглядом его кабинет. Полки с книгами, деревянный пол, ковер, кушетка. Я думаю, что в этой комнате, наверное, нет ни единого места, где бы я ни сидел.
— Знаешь, Митч, — Морри с задумчивым видом поправляет очки, — с такой работой тебя могут взять к намучиться на магистра.
— Да, как же, — усмехаюсь я.
Усмешка усмешкой, а мысль эта мне по душе. Мне немного страшно уходить из университета и в то же время — отчаянно хочется уйти. Напряжение противоположностей. Я наблюдаю, как Морри читает мой проект, и меня вдруг начинает разбирать страшное любопытство: каков он, этот огромный мир за стенами университета?
Наглядные пособия. Часть вторая
«Найтлайн» сделала еще одну передачу с Морри, отчасти потому, что первая вызвала столько откликов. На этот раз, когда операторы и постановщики прошли в дом, они уже расположились по-семейному. И сам Коппел держался заметно дружелюбнее. На этот раз не было пояснительной заставки и интервью перед интервью. Для затравки Коппел и Морри обменялись рассказами о своем детстве: Коппел описал, как он рос в Англии, а Морри поведал, как рос в Бронксе. На Морри была синяя рубашка с длинным рукавом — ему теперь всегда было холодно, даже когда на дворе стояла жара, — а Коппел снял пиджак и остался в рубашке и галстуке. Похоже, Морри снимал с него «амуницию» слой за слоем.
— Вы хорошо выглядите, — сказал Коппел, когда зажужжали камеры.
— Все мне так говорят, — ответил Морри.
— И ваш голос звучит хорошо, — продолжал Коппел.
— Все так говорят.
— А откуда же вы знаете, что вам становится хуже?
Морри вздохнул:
— Никто, кроме меня, этого не знает, Тед. Но я-то знаю.
Когда Морри заговорил, все стало ясно. Он уже не размахивал руками, как прежде, во время первой беседы. С трудом произносил некоторые слова — буква «л», казалось, застревала у него в горле. Через несколько месяцев он скорее всего вообще не сможет говорить.
— А что до моих эмоций, — объяснял Морри Коппелу, — то, когда ко мне приходят друзья и знакомые, настроение у меня хорошее. Любящие люди поддерживают меня. Но бывают дни, когда я подавлен. Что таить, я вижу, что происходит, и меня охватывает ужас. Что я буду делать без рук? Что случится, когда я не смогу больше говорить? Смогу ли я глотать, меня не особо волнует — ну, будут меня кормить через трубочку, что с того. Но мой голос! Мои руки! Они для меня все. Без голоса я не смогу говорить, а без рук не сделаю ни жеста. Это для меня средства.
— Как же вы собираетесь общаться, когда не сможете больше разговаривать? — спросил Коппел.
Морри пожал плечами:
— Наверное, попрошу всех задавать мне вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет».
Ответ этот показался Коппелу таким простым, что он улыбнулся. Коппел спросил Морри о тишине. Он вспомнил о близком друге профессора, Мори Штейне, который в свое время послал в «Бостон глоуб» высказывания Морри. Они вместе работали в университете Брандейса с начала шестидесятых. Теперь Штейн терял слух. Коппел представил, как однажды они окажутся вдвоем, и один не сможет говорить, а другой ничего не будет слышать. И что же будет?
— Я возьму его руку в свою, — сказал Морри. — И мы оба ощутим нашу близость и теплоту. Тед, мы дружим уже тридцать пять лет. Чтобы почувствовать то, что мы испытываем друг к другу, нам уже не нужно ни речи, ни слуха.
Перед самым концом съемки Морри прочитал Коппелу одно из полученных им писем. После первой передачи на «Найтлайн» их пришла уйма. И вот одно было от учительницы из Пенсильвании, которая вела занятия в специальной группе — в ней было всего девять детей, и каждый пережил смерть кого-то из родителей.
— Вот, что я ей ответил. — Морри осторожно водрузил на нос очки. — Дорогая Барбара… Меня очень тронуло ваше письмо. То, что вы делаете для детей, потерявших родителей, необычайно важно. Я тоже потерял одного из родителей в раннем возрасте…
И тут, при все еще жужжавших кинокамерах, Морри поправил очки, замолчал… и вдруг закусил губу и закашлялся. По лицу его потекли слезы.
— Я потерял маму, когда был еще совсем ребенком… и это был для меня страшный удар… Если бы в то время у меня была такая группа, как ваша, где я мог бы поделиться своим горем, я бы обязательно стал ходить в такую группу, потому что… — голос его дрогнул, — …потому что я был так одинок…
— Морри, — заговорил Коппел, — ваша мать умерла семьдесят лет назад. И вы до сих пор это переживаете?
— Конечно, — едва слышно ответил Морри.
Ему тогда было восемь. Из больницы пришла телеграмма, а так как его отец, эмигрант из России, не умел читать по-английски, новость пришлось сообщать самому Морри и, точно ученику перед классом, зачитывать извещение о смерти матери.
— «С прискорбием сообщаем…» — начал читать Морри.
Утром вдень похорон родственники Морри спускались по ступенькам их многоквартирного дома в бедном районе Манхэттена. Мужчины были в темных костюмах, а на женщинах — черные вуали. Соседские дети шли в это время в школу, и, когда они проходили мимо, Морри опускал глаза, сгорая от стыда за свое положение. Одна из тетушек, грузная женщина, схватила Морри в охапку и завыла:
— Что же ты будешь делать без матери? Что из тебя получится?
Морри разразился слезами. А одноклассники убежали.
На кладбище Морри смотрел, как засыпали землей могилу матери, и пытался вспомнить все минуты нежности, проведенные с ней. Мама, пока не заболела, управляла конфетной лавкой. А когда заболела, то либо спала, либо сидела у окна, хрупкая, совсем без сил. Время от времени она кричала сыну принести ей лекарство, а маленький Морри, игравший с друзьями во дворе, делал вид, что не слышит. Он верил, что, если не обращать на болезнь внимания, она пройдет сама собой.
А как еще ребенок может противостоять болезни?
Отец Морри, которого все называли Чарли, приехал в Америку, чтобы избежать службы в русской армии. Он работал в меховом бизнесе, но почти все время был без работы. Без образования, с трудом говоря по-английски, он едва сводил концы с концами, и семья почти постоянно была на содержании государства. Их квартира позади лавки была тесной, темной и мрачной. Денег еле-еле хватало на самое необходимое. Иногда, чтобы немного заработать, Морри и его младший брат Дэвид вдвоем — за пять центов! — мыли лестницу.
После смерти матери, мальчиков послали в Коннектикут, где несколько семей снимали большой бревенчатый дом с общей кухней прямо в лесу. Мальчикам будет хорошо на свежем воздухе, решили родственники. Ни Морри, ни Дэвид никогда в жизни не видели столько зелени, они целыми днями гоняли по полям. Однажды после обеда они отправились на прогулку, и вдруг пошел дождь. Но вместо того, чтобы вернуться в дом, они еще долго-долго плескались под дождем.
На следующее утро, когда они проснулись, Морри вскочил с кровати.
— Давай вставай, — сказал он брату.
— Я не могу.
— Как это не можешь?
На лице Дэвида отразился ужас:
— Я не могу пошевелиться.
У мальчика начался полиомиелит.
Конечно, это случилось не из-за дождя. Но ребенок в возрасте Морри не мог этого понять. Долгое время, когда брат кочевал из одного лечебного заведения в другое и его заставляли носить корсеты, из-за которых он хромал, Морри чувствовал себя виноватым.
По утрам Морри один шел в синагогу — отец его не был верующим — и, стоя среди мужчин в длинных черных одеждах, просил Бога позаботиться о его умершей матери и больном брате.
А днем у входа в метро он торговал вразнос журналами, отдавая все заработанные деньги семье на еду.
По вечерам он наблюдал, как отец ест в полном молчании, и тщетно надеялся хоть на какое-то внимание, нежность, теплоту.