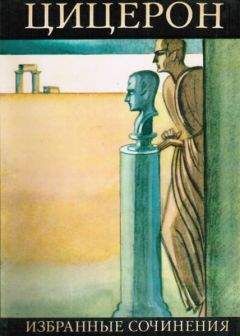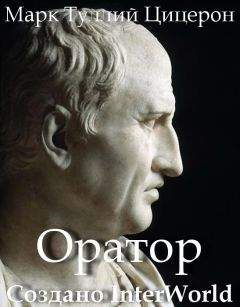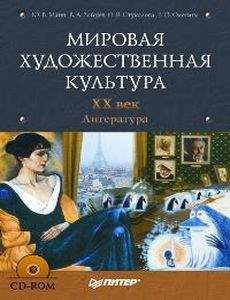Фанний. Ты, Лелий, продолжай! Сцевола помоложе меня, и я имею право говорить за него.
(33) Сцевола. Правильно. А потому послушаем дальше.
Лелий. Так послушайте, достойные мужи, какими мыслями нередко делились мы со Сципионом, рассуждая о дружбе. Он, правда, добавлял, что самое трудное — сохранить ее до конца дней, ибо она никнет либо оттого, что каждый гонится за собственной выгодой, либо оттого, что друзья по-разному смотрят на дела государства, да и сам человек, по его словам, меняется и под влиянием несчастий, и под бременем возраста. В доказательство приводил он поведение подростков, почти всегда одинаковое: вместе с претекстой сбрасывают они обычно и свои пылкие детские привязанности, (34) а если и сохраняют их в юности еще на некоторое время, то рано или поздно все равно расходятся из-за выгодной женитьбы, которой домогаются оба, или из-за какого-нибудь другого блага, недоступного обоим сразу. Кто-нибудь, может, и сумеет сохранить дружеские отношения дольше обычного, но, погрузившись в борьбу за почетные должности, отступится и он. Нет для дружбы большей пагубы, чем алчность, если речь идет о большинстве, или чем честолюбие, если говорить о самых достойных, — именно отсюда не раз возникала вражда, разводившая даже самых близких друзей. (35) Особенно глубоки и обычно вполне оправданы расхождения там, где человек требует от друзей, чего по справедливости требовать нельзя — чтобы они потакали его вожделениям или помогали наносить вред другим, и если друзья как честные люди отказываются ему угождать, он обвиняет их в нарушении законов дружбы. Осмеливаясь добиваться от друзей решительно всего, он как бы во всеуслышание обязывается тоже пойти на все ради них. Такие ссоры не только уничтожают былую дружбу, но и порождают бесконечную ненависть. «Подобно року тяготеют такие опасности над друзьями, — говорил Сципион, — и уберечь от них может, видно, не столько разумная предусмотрительность, сколько счастливая судьба».
XI. (36) Вот потому-то и давайте рассмотрим, если вы согласны, как далеко должна заходить преданность в дружбе. Если у Кориолана были друзья, неужто им следовало тоже поднять оружие против родины? Разве должны были друзья помогать Мелию или Вецелину, когда те рвались к царской власти? Мы видели, как Квинт Туберон387 и другие сверстники-друзья отвернулись от Тиберия Гракха, когда он принялся терзать наше государство. (37) А Гай Блоссий Куманский,388 друг вашей семьи, Сцевола? Вместе с консулами Ленатом и Рупилием389 участвовал я в разборе этого дела, когда он явился ко мне, стал умолять о снисхождении и оправдываться — восхищение его перед Тиберием Гракхом было-де столь безгранично, что он считал долгом выполнять любую его волю. «Ну, а если бы Тиберий захотел, — спросил я его, — чтобы ты поджег Капитолий?» — «Никогда не пришло бы ему это в голову, — отвечал Блоссий, — но если бы он так решил, я бы его послушался». Чувствуете, какие чудовищные слова? И ведь он действительно поступил, как сказал, и даже сделал больше, чем сказал, — не только служил замыслам Тиберия Гракха, но и превзошел его, стал не только его помощником, но и наставником в разнузданном бешенстве. Одержимый тем же безумием, перепуганный угрозой еще одного следствия, бежал он в Азию, перешел на сторону врага и по заслугам понес от государства суровую кару. Проступок, как видим, не может быть оправдан тем, что он совершен ради друга, ибо верность гражданской доблести скрепляет дружбу, тому же, кто изменил доблести, трудно сохранить и друзей. (38) Значит, только достигнув истинной и совершенной мудрости, могли бы мы признать, что и угождать любому желанию друга и требовать от него такого же угождения справедливо, и только в этом случае не принесло бы такое правило никакого вреда; но ведь у нас речь идет о таких друзьях, каких мы видим собственными глазами, о каких знаем из воспоминаний, — таких, какие бывают в жизни. Их-то мы и должны брать для примера, а среди них в первую голову тех, кто ближе к подлинной мудрости. (39) Мы знаем по рассказам отцов, какими друзьями были Пап Эмилий и Лусций, вместе дважды занимавшие должность консула, вместе отправлявшие цензорство; до сих пор всем памятно, как близки были и с ними обоими, и между собой Маний Курий и Тит Корунканий. Ни об одном из них даже и помыслить нельзя, чтобы он пытался принудить друга хоть в чем-то нарушить верность, изменить клятве, нанести ущерб государству. Надо ли добавлять, когда речь идет о таких людях, что, даже если бы кто и стал этого домогаться, все равно у него ничего бы не вышло? То были мужи, достойные благоговейного уважения, и одинаковым нечестьем почли бы они и выполнить такую просьбу, и обратиться с ней. А вот за Тиберием Гракхом последовали и Карбон,390 и Катон;391 Гай, ныне такой же бешеный, как брат, в ту пору за ним не пошел.
XII. (40) Пусть же будет нерушим этот закон дружбы: ничего постыдного не просить у друзей и не делать по их просьбе. Позорно оправдывать любой поступок, а особенно преступление против государства тем, что он совершен ради друга, и считаться с такими объяснениями надо меньше всего. Вот теперь-то, Фанний и Сцевола, пора нам остановиться и вглядеться в отдаленное будущее, дабы увидеть грядущие беды нашего государства. В беге своем оно ныне уклонилось в сторону и вышло из колеи, проложенной предками. (41) Уже Тиберий Гракх пытался стать царем или даже был им несколько месяцев. Видел ли, слышал ли римский народ прежде что-нибудь подобное? После смерти Тиберия друзья и близкие продолжали начатое им, и о том, что сделали они со Сципионом, я не могу вспомнить без слез. Да, Карбона нам так или иначе пришлось вытерпеть — слишком еще свежа была в памяти людей кара, понесенная Тиберием Гракхом,392 а что сулит трибунат Гая Гракха, лучше не загадывать. Государство сошло с прямого пути и, раз двинувшись под уклон, приходит во все большее расстройство. Какую смуту еще раньше внесло в государство тайное голосование, введенное сперва законом Габиния, а двумя годами спустя законом Кассия,393 вы знаете. Мне кажется, я уже вижу народ, оторванный от сената, вижу, как важнейшие дела решаются по произволу толпы. И ведь больше людей учатся творить беззаконие, чем противостоять ему. (42) Откуда все это берется? Никто, не имей он помощников, не решился бы на подобные злодеяния. Каждому достойному человеку поэтому следует внушить, что если он случаем или по неведению вступит в дружбу вроде описанной, то пусть не думает, будто обязан хранить ей верность и не может порвать с друзьями, совершающими тяжкие преступления против республики. Для бесчестных надо установить кару, причем для тех, кто следовал за другими, не меньшую, чем для вожаков. Был ли в Греции человек, более знаменитый и могущественный, чем Фемистокл? Командуя греками в Персидской войне, он избавил страну от рабства, потом был изгнан по проискам завистников, но не простил неблагодарной родине оскорбления, хотя обязан был его простить, и поступил так же, как за двадцать лет до того поступил у нас Кориолан. Ни тот, ни другой не нашли в борьбе против родины ни одного помощника и оба наложили на себя руки.394 (43) Вот почему сговор бесчестных людей не только нельзя прикрывать именем дружбы, но, наоборот, его следует наказывать особенно сурово, дабы никто не думал, будто можно встать на сторону друга, если тот поднял оружие против родины. Впрочем, судя по тому, как пошли у нас дела в последнее время, сомневаюсь, чтобы этого когда-нибудь удалось добиться. А между тем каким будет государство после моей смерти, заботит меня не меньше, чем состояние его сегодня.
XIII. (44) Пусть же будет нерушим этот закон дружбы: ничего бесчестного не просить у друзей и ради них не делать; не ждать, когда вас призовут, а самим помогать им от души и без промедленья; давая совет, не бояться быть независимым и прямым. Пусть не будет в дружбе ничего весомее доброго совета друзей, пусть образумят они нас своим влиянием, высказавшись открыто, а если надо, и резко, мы же станем им повиноваться. (45) Но ведь есть люди — и я даже слышал, будто в Греции их считают наставниками мудрости, — которые утверждают весьма странные, на мой взгляд, вещи; впрочем, там кудрявыми словесами умеют доказать вообще все что угодно. Главное, полагают они, избегать чересчур многочисленных дружеских связей, дабы одному не приходилось беспокоиться за многих; каждому, дескать, с избытком хватает своих дел, и ввязываться в чужие — значит только брать на себя лишнюю обузу; дружба лучше всего, если она как поводья: когда надо — натянул, когда надо — отпустил; для счастливой жизни, мол, нужнее всего спокойствие, а им-то и невозможно наслаждаться, если будешь терзаться за всех. (46) Впрочем, есть, говорят, и другие, которые судят совсем уж как дикари (о них я мимоходом недавно упоминал), будто дружбы надо искать ради защиты и помощи, а не ради приязни и любви. Выходит, в ком меньше твердости души, мужества, силы, тот и должен больше всех добиваться дружбы; женщинам, получается, следует искать в ней опоры скорее, чем мужчинам, нищим — скорее, чем состоятельным, горемычным — скорее, чем счастливым. (47) Вот уж мудрость так мудрость! Лишить жизнь дружбы — все равно, что лишить вселенную солнца, ибо ничего не дали нам боги ни лучше, ни светлее и радостнее. И что это за спокойствие такое? На взгляд оно, может, и привлекательно, да на деле отвратительно, и по многим причинам. Нелепо ради того, чтобы избавить себя от забот, не браться за достойное дело или, раз взявшись, от него отступиться. Если избегать тревог, придется отказываться и от доблести, которая презирает и ненавидит все ей противоположное, — а это непременно влечет за собой и волнения и тревоги; честность отвергает коварство, воздержность — вожделения, мужество — трусость, и каждый замечал, как сильно удручает несправедливость справедливых, нерешительность — решительных, наглость — скромных. В этом — повторяю — и состоит свойство совершенной души: радоваться добрым делам и страдать от злых. (48) Вот почему, если ведома душе мудреца скорбь, — а ведома она ему бесспорно, иначе пришлось бы полагать, будто из груди его вырвано с корнем все человеческое, — зачем же изгонять из нашей жизни дружбу во избежание горестей, с нею сопряженных? Отнимите у души способность волноваться, и какая же останется разница между человеком и не то что скотом, а бревном, камнем, любой вещью? Не след нам прислушиваться к тем, кому гражданская доблесть представляется бесчеловечной и жесткой, как железо. Как в разных других обстоятельствах, так и в дружбе бывает она и легкой и податливой, то как бы растворяется в удачах друга, то как бы твердеет от его бед. Страх, который часто приходится испытывать за друга, не стоит того, чтобы из-за него изгонять из жизни дружбу, точно так же, как не стоит отвергать доблесть из-за трудов и забот, от нее неотъемлемых.