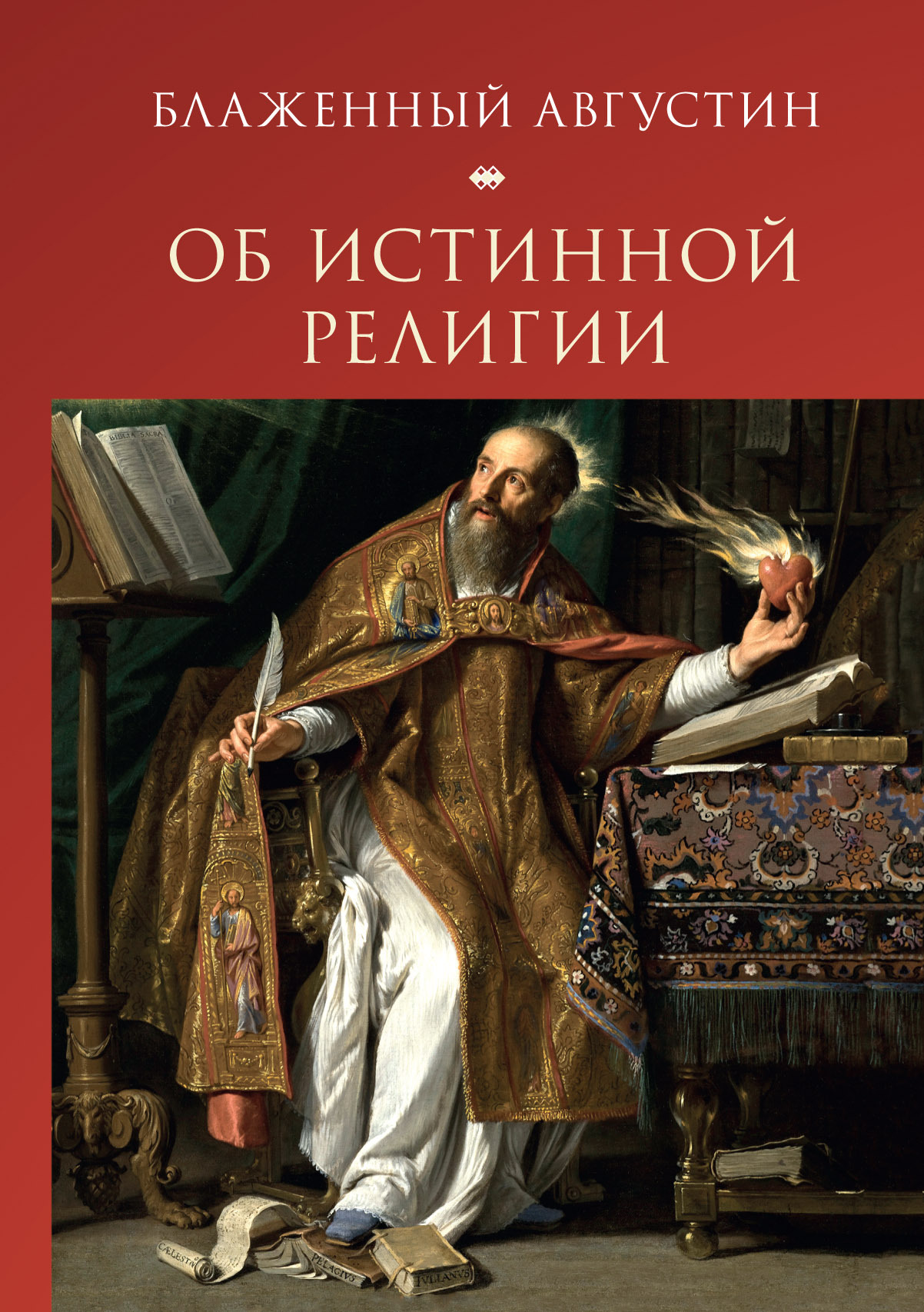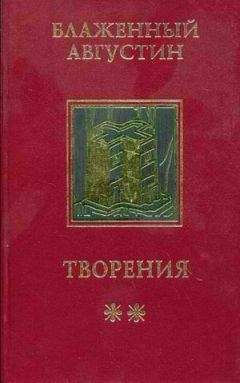надежды на Тебя не должно терять ни в чем.
На какое-то время мы все, забыв о предмете нашего состязания, готовы были отдаться слезам, но, преодолевая взволнованность и приходя в себя, я сказал:
– Мужайся и соберись с силами, запастись которыми я и прежде советовал тебе, будущему защитнику Академии, – запастись не для того, разумеется, чтобы дрожь охватила Твои члены еще до звука трубы или чтобы из желания посмотреть на чужое, ты тотчас же пожелал бы сдаться в плен.
Тогда Тригеций, заметив, что лица наши уже достаточно просветлели, сказал:
– А почему бы нам не пожелать достойному человеку, чтобы Бог дал ему разумение прежде, чем он сам станет Его об этом молить? Только веруй, Лиценций, потому что когда ты не находишь, что отвечать, а между тем еще желаешь быть победителем, то кажешься мне человеком маловерным.
Мы рассмеялись, а Лиценций тут же парировал:
– Давай, блаженный ты наш, рассказывай нам о том, как ты не только истины не находишь, но даже и искать ее не собираешься!
Когда от этой шутливой перебранки юношей нам всем стало веселей, я сказал:
– Вникни же в вопрос и снова вступи на ту же дорогу с большей, если можешь, твердостью и силой.
– Готов, – отвечал он, – насколько могу. Предположим, что тот, кто смотрит на моего брата, благодаря молве прослышал, что он похож на отца; может ли он быть назван безумным или нелепым?
– А, по крайней мере, глупым, – говорю я, – может быть назван?
– Нисколько. Разве что он стал бы утверждать, что знает это. Если же он примет лишь за вероятное то, что распространила молва, – его нельзя упрекать ни в каком безрассудстве.
– Хорошо, давай остановимся несколько на этом предмете и представим, что все это происходит на наших глазах. Пусть воображаемый нами человек, кто бы он там ни был, стоит здесь. Приходит, предположим, твой брат. Человек спрашивает: “Этот отрок, чей он сын?” Ему отвечают: “Некоего Романиана”. На это он: “Как он похож на отца! Какие верные дошли до меня об этом слухи”. При этом ты, или кто-нибудь другой спросил бы: “А ты, мил человек, знаешь ли Романиана?” “Нет, не знаю, – отвечает он, – однако же сей отрок мне кажется очень похожим на него”… Смог ли бы кто удержаться при этом от смеха?
– Никоим образом.
– Итак, – говорю, – ты видишь сам, что отсюда следует.
– Вижу уже давно, но желаю слышать это заключение от тебя. Поймав в клетку, ты должен и покормить пойманного.
– Отчего же и не сделать заключения? Само дело говорит, что подобным же образом следует смеяться и над твоими академиками, которые говорят о себе, что они в жизни следуют истиноподобному, а между тем, что такое сама истина, – не знают.
8. Тогда Тригеций сказал:
– Мне кажется, что осмотрительность академиков далеко не похожа на глупость того человека, которого ты представил. До того, что они называют истиноподобным, они доходят разумным путем, а этот, нелепый, руководствуется одной молвою, значение которой ничтожнее всего.
– Да разве он не был бы еще нелепее, – говорю я, – если бы сказал: “Хотя я и отца его не знаю, и молва не доходила до меня, что он якобы похож на отца, однако же он кажется мне похожим”.
– Действительно, нелепее, но к чему это?
– А к тому, что таковы же и те, которые говорят: “Хотя истины мы и не знаем, однако то, что мы видим, не похоже на то, чего не знаем”.
– Они прибавляют при этом слово “вероятно”, – заметил Тригеций.
– Что ты хочешь этим сказать? Не отрицаешь ли, что они говорили об истиноподобном?
– Я сказал это для того, чтобы устранить представленное тобою подобие. Ибо мне кажется, что молва втянута в наш вопрос совсем некстати. Академики не верили и глазам человеческим, хотя бы у молвы их было не только тысячи, как представляют поэты, но и с чудовищными зрачками. Впрочем, какой из меня защитник Академии? Уж не желаешь ли ты и меня втянуть в этот спор? Есть же вот у тебя Алипий. Пусть его приход принесет вам праздник. Полагаю, что ты не напрасно побаиваешься его.
Тут все посмотрели на Алипия. Тот сказал:
– Я действительно желал бы, насколько позволяют мои силы, помочь сколько-нибудь защищаемой вами стороне, если бы не ваша неудача, которая, как плохое предзнаменование, приводит меня в смущение. Впрочем, если надежда не обманывает меня, я легко избегу этой опасности. Меня ободряет при этом то обстоятельство, что теперешний противник Академии принял на себя обязанности Тригеция, почти уже побежденного, но который теперь в вашем сознании вероятно уже обратился в победителя. Более боюсь я того, что мне нельзя будет избежать упрека и в пренебрежении обязанности оставленной, и в бесстыдном принятии на себя новой. Вы, полагаю, не забыли, что на меня была возложена обязанность судьи.
На это Тригеций отвечал:
– То само по себе, а это само по себе. Мы просим, чтобы ты на некоторое время считал себя частным лицом.
– Изволь, потому что, желая избежать бесстыдства или небрежности, я впал бы в сети гордыни, порока самого худшего, если бы предоставленную мне вами честь удерживал долее, чем вы позволяете.
9. Итак, я желал бы, чтобы ты, строгий обвинитель академиков, объяснил мне принятую на себя обязанность, т. е. защищая кого ты на них нападаешь? Ибо я опасаюсь, что, опровергая академиков, ты желаешь доказать, что ты сам академик.
– Ты, полагаю, хорошо знаешь, – отвечал я, – что обвинителей есть два рода. Если Цицерон по скромности сказал, что он потому только является обвинителем Верреса, что желает быть защитником сицилийцев, то из этого еще не следует, чтобы обвиняющий кого-либо непременно при этом защищает другого.
– Ругать легче, чем утверждать. Есть ли у тебя свое определенное мнение по этому вопросу?
– На это, – говорю я, – ответить легко, а особенно мне, для которого такой вопрос не является неожиданным. Обо всем этом я уже рассуждал с собою, думал долго и много. Поэтому выслушай, Алипий, то, что полагаю, ты уже прекрасно знаешь: я вовсе не желаю, чтобы состязание это было предпринято ради состязания. Достаточно уже того, что мы дозволили себе прелюдию с этими юношами, в которой философия как бы любезно пошутила с нами. Отбросим же в сторону детские побасенки. Дело идет о жизни нашей, о правах, о душе, которая мечтает преодолеть вражду всякой лжи, и познав истину, как бы возвратиться в область своей родины, восторжествовав над похотями и сочетавшись с воздержанием, как с супругом, царствовать, обеспечив себе возврат на небо. Понимаешь, что я хочу