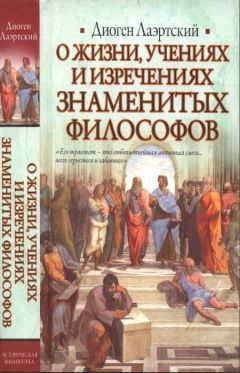После книг о космосе четвертая эннеада охватывает книги о душе. Вот они: "О сущности души, I", "О сущности души, II", "О сомнениях души, I", "О сомнениях души, II", "О сомнениях души, III, или "О времени", "Об ощущении и памяти", "О бессмертии души", "О нисхождении души в тело", "Все ли души — одна душа". Таким образом, четвертая эннеада обнимает все вопросы о душе, тогда как следующая за ней пятая — об уме, причем каждая книга здесь касается и того, что выше ума, и того ума, который в душе, и наконец, идей. Вот эти книги: "О трех начальных субстанциях", "О становлении и порядке того, что после первичности", "О познающих субстанциях и о том, что выше их", "Как от первого происходит последующее и о единице", "О том, что вне ума нет умопостигаемого, а также о благе", "О том, что не может мыслить то, что выше сущего, и что есть первое мыслящее, а что второе", "Существуют ли идеи частных вещей", "Об умопостигаемой красоте", "Об уме, идеях и бытии". Четвертую и пятую эннеады мы также расположили в одном сборнике.
Остальные книги составили шестую эннеаду, образующую отдельный сборник, так что все, написанное Плотином, распределяется по трем сборникам, из которых первый состоит из трех эннеад, второй из двух, а третий из одной. В третий сборник и в шестую эннеаду входят следующие книги: "О родах сущего, I", "О родах сущего, II", "О родах сущего, III", "О том, что сущее повсюду одно и то же, I", "О том, что сущее повсюду одно и то же, II", "О числах", "Как существует множественность идей, а также о благе", "О добровольном и о воле единого", "О благе и едином". Вот как я распределил по шести эннеадам эти книги, а всего их пятьдесят четыре.
К некоторым из этих книг я написал и пояснения, но без всякого порядка, — лишь по просьбе наших товарищей о том, что хотелось им себе уяснить. Далее, я снабдил все эти книги оглавлениями (за исключением лишь одной оставшейся "О прекрасном"), сделав это в последовательности выпуска книг; при этом в оглавлении каждой книги даны не только заглавия, но и содержание рассуждений, перечисленное по главам. И теперь нам предстоит каждую из этих книг перечитать, разметить знаками препинания и, если есть какая погрешность в словах, выправить ее. Что еще потребует нашего вмешательства, будет видно по мере самой работы.
Марин
ПРОКЛ, ИЛИ О СЧАСТЬЕ
Когда приходилось мне смотреть на величие души и на все иные достоинства современника нашего, философа Прокла, а потом задумываться, какая же подготовка, какая сила слова потребуется от тех, кому предстоит описывать его жизнь, и каково мое собственное бессилие в словесности, то казалось мне, что лучше мне за это и вовсе не браться, через яму не прыгать (как говорит пословица) и совсем уклониться от опасностей подобного рода сочинения. Но когда я приложил к этому другую мерку, когда подумал, что и в храмах не все приходят к алтарям с одинаковыми жертвами, чтобы снискать благоволение алтарных богов, а иные с быками, иные с козлами, иные с чем-нибудь еще, и одни творят славословия складно и в стихах, а другие без всяких стихов, и что кому нечего принести, те приходят только с лепешкою да при случае с зернышками ладана, а к богам взывают лишь в короткой молитве, но тем не менее тоже бывают услышаны, когда я об этом подумал, то я побоялся, как бы я, по Ивикову слову,[917] не променял честь от богов на честь от людей (хоть моя тут честь не от богов, а от мудреца, ибо кажется мне, что нечестиво мне одному из всех его учеников хранить молчание, когда мне больше, чем кому другому, следовало бы по мере сил моих поведать о нем всю правду), да, пожалуй, и чести от людей не удостоился бы люди ведь подумают, что этим делом своим я пренебрегаю лишь по лености или по какой другой душевной слабости, а совсем не по отвращению к гордыне. И по всем этим соображениям решился я записать хотя бы некоторые из неисчислимых заслуг нашего философа, рассказав о них лишь истинную правду.
Я начну мою речь не так, как обычно делают писатели, по порядку располагая главу за главой; я положу в основание моей речи мысль о счастье человека блаженного, ибо здесь ничего не может быть уместнее: я уверен, что был он самым счастливым из людей, прославляемых во все века. Я имею в виду не только счастье мудрых, ту добродетель, которая одна довлеет блаженству, — хоть и это ему было дано в высшей степени; и не только то житейское благополучие, которое хвалят столь многие, — хоть и здесь его среди людей не обошла удача, и он щедро был наделен всеми так называемыми внешними благами; нет, я говорю о некотором совершеннейшем и всецелом счастье, слагающемся и из того и из другого.
Итак, примем для начала разделение добродетелей на естественные, нравственные и общественные, а затем на более высокие — очистительные (catharticai) и умозрительные (theoreticai), умолчав о еще более высоких, так называемых боготворческих (theoyrgicai), ибо место их уже превыше доли человеческой; и, приняв это, начнем нашу речь с добродетелей естественных. Как всем, кому они даны, они присущи отроду, так и ныне восхваляемому нами блаженному мужу все они были врождены от самого его начала. Признаки этого являлись воочию даже во внешнем совершенстве его облика, подобно как бы царственному пурпуру.
Первая из них есть высочайшая безущербность всех внешних чувств, называемая нами "разумением телесным", особенно же — зрения и слуха, этих достойнейших наших чувств, дарованных богами человеку для блага жизни и искания мудрости. Безущербность эта всю его жизнь оставалась у него неизменною.
Вторая из них есть телесная сила, не чувствительная ни к зною, ни к холоду, не страдающая ни от простой пищи, к которой был он беззаботен, ни от тех трудов, которым он предавался днем и ночью, когда молился, развертывал книги, писал, беседовал с друзьями, и все это с таким рвением, словно каждая из этих забот была у него единственной. Такую способность по справедливости можно назвать "мужеством телесным".
Третья телесная добродетель есть красота, которую можно сравнить с размеренностью душевной: сходство между этими качествами отмечается с полным к тому основанием. В самом деле, как душевное это качество усматривается в созвучии и согласии различных душевных сил, так телесная красота видится в некоторой соразмерности всех частей тела. А Прокл был на редкость привлекателен на вид, и не только от хорошего своего сложения, но и от того, что душа его цвела в теле, как некий жизненный свет, испуская дивное сияние, с трудом изобразимое словом. Он был так красив, что образ его не давался никакому живописцу, и как ни хороши существующие его изображения, все же им много недостает для передачи истинного его облика.
Четвертая же телесная добродетель, здоровье, считается подобием справедливости и правосудия душевного: как есть справедливость душевная, так есть и "справедливость телесная". В самом деле, ведь справедливость есть не что иное, как уклад, приводящий к миру все части души; точно так же и здоровьем у слушателей Академии называется то, что в беспорядочность жизненных начал вносит строй и взаимное соответствие. И здоровье это с младенческих лет было у него таким отличным, что на вопрос, сколько раз он болел, отвечал он, что лишь два-три раза за всю свою долгую жизнь, а прожил он целых семьдесят пять лет.[918] Подтверждается это и тем, чему я сам был свидетелем в последней его болезни: он с большим трудом распознавал те боли, которые испытывало тело, настолько они для него были непривычными.
Таковы были телесные его достоинства; но все их можно по справедливости назвать лишь провозвестниками тех достоинств, в которых находит свой вид совершенная добродетель. Даже те качества души, которые врождены ему были от природы и до всякого наставника, те части добродетели, которые Платон называет начатками философской души, были в нем достойны удивления. Памятливый, восприимчивый, высокий духом, добрый, он сдружился и сроднился с истиною, справедливостью, мужеством, умеренностью.
Лгать намеренно он никогда не помышлял, всякую ложь ненавидел, а нелживую истину любил. И как же было человеку, устремившемуся постичь истину сущего, не искать во всем правды с самых детских лет? Ведь из всех благ истина выше всего чтится и богами и людьми.
Как презирал он плотские наслаждения, а превыше всего любил умеренность, тому достаточным доказательством будет его прилежание к наукам, наклонность и порыв ко всяким знаниям; а они никогда не позволят возобладать в человеке наслаждениям животным и грубым, но способны возбудить душу лишь к размеренной согласованности в самой себе. Жадность была ему чужда до несказанности: хоть родители его и были люди богатые, он смолоду не смотрел на все их богатство, увлеченный одною лишь философией. Поэтому же был он свободен от низменных забот и всякой мелочности, волнуемый только самыми большими и общими вопросами о божеском и человеческом.