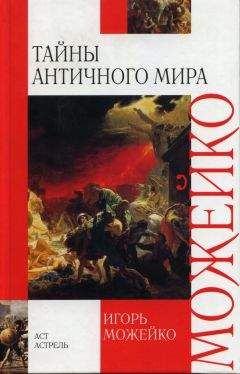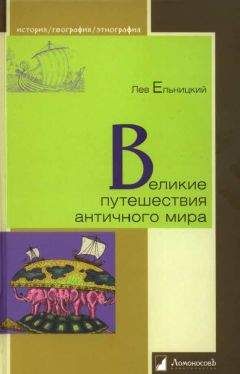Но был Эпиметей не очень-то мудр, и не заметил он, что {C} роздал все силы бессловесным тварям, хоть род человеческий оставался у него еще неукрашенным; и стал Эпиметей недоумевать, что теперь делать. Пока пребывал он в недоумении, приходит Прометей, чтобы проверить распределение, и видит, что все прочие животные во всем хорошо устроены, человек же наг и необут, и без постели, и без оружия; а уж наступил предназначенный день, когда следовало и человеку выйти из земли на свет. {D} И вот в недоумении, какое бы найти средство помочь человеку, крадет Прометей премудрое уменье Гефеста и Афины вместе с огнем, потому что без огня никто не мог бы им владеть или пользоваться. В том и состоит дар Прометея человеку. Благодаря этому люди овладели уменьем поддерживать свое существование, но им еще не хватало уменья жить сообща — оно было у Зевса, а войти в обитель Зевса, в его верхний город, Прометею уже не было возможности, {E} да и страшны были стражи Зевса.21 Прометей проник украдкой только в общую мастерскую Гефеста и Афины, где они предавались своим искусным занятиям. Украв у Гефеста уменье обращаться с огнем, а у Афины — другое уменье, Прометей дал их человеку для его благополучия, {322} самого же Прометея после постигло из-за Эпиметея возмездие за кражу, как говорят сказания.
С тех пор как человек сделался причастен божественному уделу, только он один из всех живых существ, благодаря своему родству с богом, стал прежде всего признавать богов и принялся воздвигать им алтари и кумиры, затем скоро начал он искусно расчленять звуки голоса, давать всему названия, а также изобрел жилища, одежду, обувь, постели и добыл пропитание из почвы. Устроившись таким образом, люди сначала обитали в рассеянии, селений еще не было; люди погибали от зверей, {B} так как были во всем их слабее, и одного умения обрабатывать, хотя оно достаточно помогало в добывании пищи, было мало для борьбы со зверями — у людей еще не было того уменья действовать сообща, часть которого составляет военное дело. И вот люди стали стремиться собраться вместе и строить города для своей безопасности. Но чуть они собирались вместе, так сейчас же начинали обижать друг друга, потому что у них не было уменья жить сообща; опять приходилось им расселяться и гибнуть.
Зевс, опасаясь, как бы не пропал весь наш род, посылает {C} Гермеса ввести среди людей совестливость и правду, чтобы они объединяли их стройным общественным порядком и дружественной связью.
Вот и спрашивает Гермес Зевса, каким же образом дать людям правду и совестливость: «Так ли их распределить, как распределено уменье? А оно распределено вот как: одного, владеющего, положим, врачеванием, хватает на многих, несведущих в нем; то же и со всеми прочими мастерами. Значит, правду и совестливость мне тоже так установить среди людей или же уделить их всем?»
{D} «Всем, — сказал Зевс, — пусть все будут к этому причастны; не бывать государству, если только немногие будут причастны к ним, как бывают причастны к другим знаниям. И закон положи от меня, чтобы всякого, кто не может быть причастным совестливости и правде, убивать как язву общества».
Так-то, Сократ, и вышло по этой причине, что афиняне, как и все остальные люди, когда речь заходит о плотническом умении или об умении в каком-нибудь другом ремесле, думают, что лишь немногим пристало участвовать в совете, и если кто, не принадлежа к этим немногим, подаст совет, его не принимают, {E} как ты говоришь, и правильно делают, скажу я с своей стороны; когда же они приступают к совещанию по части доблести гражданской, {323} где все дело в справедливости и благоразумии, тут принимают они, как и следует, совет всякого человека, так как всякому подобает быть причастным этой доблести, а иначе и государствам не быть. Вот в чем, Сократ, здесь причина.
А чтобы ты не думал, будто я тебя обманываю, вот тебе еще доказательство того, что все люди, в сущности, считают всякого человека причастным справедливости и прочим гражданским доблестям. Ведь насчет прочих способностей дело обстоит, как ты говоришь: если кто скажет про себя, что он хороший флейтист, или припишет себе другое какое-нибудь уменье, какого у него нет, {B} то его или высмеивают, или сердятся на него, даже домашние приходят и уговаривают его не безумствовать. А когда дело касается справедливости и прочих гражданских доблестей, тут даже если человек заведомо несправедливый вдруг станет сам о себе говорить правду всем и каждому, то такую правдивость, которую в первом случае признавали здравомыслием, все сочли бы безумием, — ведь считается, что каждый, каков бы он на самом деле ни был, должен себя провозглашать справедливым, {C} а кто не прикидывается справедливым, тот не в своем уме. Поэтому необходимо всякому так или иначе быть причастным доблести — в противном случае ему не место среди людей.
Вот я и утверждаю, что раз считается, будто всякий человек причастен этой доблести, значит, можно всякого признавать советчиком, когда дело ее касается. А еще я попытаюсь тебе доказать, что эта доблесть не считается прирожденной и возникающей сама собою, но что ей научаются, и если кто достиг ее, так только прилежанием.
{D} Когда у людей дело идет о недостатках, которые они считают врожденными или возникшими по вине случая, никто ведь не сердится, не наставляет и не наказывает тех, кто имеет этот недостаток, и не увещевает, чтобы они от него избавились, — напротив, их жалеют; кто, например, будет настолько неразумен, что решится так поступить с некрасивыми, или малорослыми, или бессильными? Потому что все знают, я полагаю, что и хорошее и дурное достается людям от природы и по случаю; но если у кого нет тех добрых свойств, которые, как полагают, {E} приобретаются благодаря старанию, упражнению и обучению, зато имеются противоположные им недостатки, — это вызывает гнев, наказания и увещания. Сюда относится и несправедливость, {324} и нечестие, и вообще все противное гражданской доблести: здесь-то уж всякий на всякого сердится и вразумляет его, — видно, из-за того, что эту доблесть можно приобрести старанием и обучением.
Если ты пожелаешь, Сократ, вдуматься, в чем суть и смысл наказания преступников, то это тебе покажет, что люди считают возможным заранее воспитать доблесть. Никто ведь не наказывает преступников, обращая внимание лишь на то, что они совершили беззаконие, {B} и только ради этого такое бессмысленное мучительство было бы зверством. Кто старается наказывать со смыслом, тот не за прошедшее беззаконие отплачивает, — ведь не превратит же он соделанного в небывшее, — но ради будущего, чтобы опять не впал в преступление ни этот самый человек, ни другой, кто видит его наказание. Кто держится такого образа мыслей, тот признает доблесть предметом воспитания: {C} ведь ради предотвращения зла он и карает. Такого взгляда держатся все, кто только наказывает, и в частном быту и в общественном. Наказывают же и карают тех, кого признают преступниками, афиняне, твои сограждане, ничуть не меньше, чем все прочие люди, так что, согласно нашему рассуждению, и афиняне принадлежат к числу тех, кто признает возможным обучать доблести и воспитывать ее заранее.
Итак, Сократ, я, по-моему, достаточно показал тебе, что твои сограждане не без основания принимают в советчики по общественным делам и медника и сапожника и что они относят {D} доблесть к предметам обучения и воспитания.
Еще остается у тебя одно недоумение: ты не возьмешь в толк, как это люди выдающиеся научают своих сыновей всему, в чем есть учителя, и в этом делают их мудрыми, но не могут добиться, чтобы те хоть кого-нибудь превзошли в доблести, которой сами они отличаются. По этому поводу, Сократ, я уже не миф тебе расскажу, а приведу разумное основание. Подумай вот о чем: {E} есть ли нечто единое, в чем необходимо участвовать всем гражданам, если только быть городу? Именно этим, а не чем иным, разрешается твое недоумение. Если оно есть, это единое, {325} и если это не плотницкое и не гончарное и не кузнечное ремесло, но справедливость, здравомыслие, благочестие во всем, — словом, я называю это единое человеческой доблестью, и если оно есть то, чему все должны быть причастны, и если всякий человек, что бы он ни желал изучать или делать, должен все делать лишь в соответствии с этим единым, а не вопреки ему, и если того, кто к нему не причастен, должно учить и наказывать — и ребенка и мужчину и женщину, — пока наказываемый не исправится, а кто, несмотря на наказания и поучения, не слушается, того, как неизлечимого, надо изгонять из городов или убивать; если так обстоит дело по самой природе вещей, {B} а между тем доблестные люди учат своих сыновей всему, только не этому, суди сам, как чудно все получается у доблестных людей! Мы доказали, что они считают возможным обучать этой доблести и в домашнем быту, и в общественном. И хотя возможно учить доблести и развивать ее, неужели эти люди станут учить своих сыновей лишь тем вещам, незнание которых не карается смертной казнью, между тем как их детям, {C} если они не научены доблести и не воспитаны в ней, угрожает смерть, изгнание и, кроме того, отнятие имущества, — словом, полное разорение дома? Неужели же они не станут учить их со всяческой заботливостью? Надо полагать, что станут, Сократ.