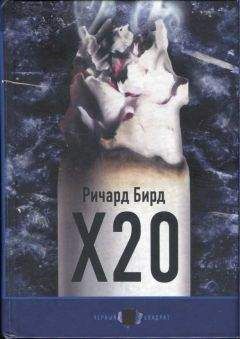Жрица. Конечно! Вот — возьми! Да и удилище заодно, чтоб было все полностью.
Лукиан. Тогда уж будь до конца любезна, Жрица: дай мне еще несколько смокв и немного денег.
Жрица. Получай!
Философия. Что он задумал делать, этот человек?
Жрица. Он наживил крючок смоквой и червонцем… Садится на выступ стены… Закинул в город.
Философия. Эй, Храброслов! Что ты там делаешь? Камни, что ли, решил удить с Пелазгика?
Лукиан. Молчи, Философия!.. Сиди и жди улова. Вы же, Посейдон-Ловец и Амфитрита любезная, пошлите нам побольше рыбы!
48. А! Вижу одного… Огромный морской волк, вернее — златобров.
Улика. Ай, нет! Это — прожора! Вот: к крючку подходит, разинув пасть… Обнюхивает золото… Близко уже! Вот… Клюнул!.. Поймали!.. Тащи!
Лукиан. И ты, Улика, помогай сейчас! Берись вместе со мной за удочку. Вот! Наверху! А ну-ка, посмотрю я, кто ты, любезный, что за рыбка? Ого! Да это — собака морская, рыба-киник! Геракл, зубов-то, зубов! Как же это, высокоуважаемый? Облизывал камешки, надеясь здесь, в укромном месте, остаться незамеченным, да и попался? Ну, теперь будешь на виду у всех, за жабры подвешенный. Однако извлечем наживу и крючок. Вот — так. Ого! Крючок-то у тебя пуст! А смоква уже пристроена, и червонец — в брюхе.
Диоген. Ради Зевса! Пусть его вытошнит, чтобы снова посадить наживку для других.
Лукиан. Разумеется… Ну, что скажешь, Диоген? Знаешь ты его, кто он таков? Есть у этого человека что-нибудь с тобою общего?
Диоген. Ничего решительно.
Лукиан. Итак, что ж он стуит? Сколько нам назначить за него? Я-то в два обола его недавно оценил.
Диоген. Дорого просишь! Ведь он — несъедобен, противен с виду, сух и вдобавок бесчестен. Спусти его вниз головой со скалы! А сам другого вытащи, закинув удочку. Только вот что, Храброслов: смотри, не сломалось бы у тебя удилище, перегнувшись от тяжести.
Лукиан. Ничего, Диоген! Разве это рыба? Мельче рака! Небось, не сломит уду рак: он легковесный!
Диоген. Истинно так: дураки легковеснейшие! Но давай — вытаскивай!
49. Лукиан. Вот — другой. Что ж это такое? Такое плоское? Будто пополам распластанная рыба… Подходит — камбала, что ли? Рот раскрывши на крючок… Сглотнул!.. Есть!.. Вытащим…
Диоген. Кого поймал?
Улика. Это — тот, что себя платоником называет!
Платон. И ты, негодник, ловишься на золото?
Лукиан. Что ж нам с ним делать, Платон? Как ты думаешь?
Платон. С той же скалы и этого!
50. Диоген. А ну, еще закинь на другого.
Лукиан. Вон-вон — опять один подходит — красивейшая рыба: насколько можно разглядеть в глубину — с узорной кожей, с золотистыми такими полосами на хребте. Видишь, Улика? Это — тот, кто подделывается под Аристотеля. Подошел, потом снова уплыл в сторону, будто прогуливается и тщательно обдумывает, глотать иль нет. Вот снова приблизился… Раскрыл рот… Попался! Пожалуй-ка наверх!
Аристотель. Не спрашивай меня о нем, Храброслов: я не знаю, кто он такой.
Лукиан. Значит и этот — со скалы вниз!
51. Но вон смотри: видишь? Множество рыб одинаковой окраски, в колючках, толстокожих с виду. Скорее ежа схватишь, чем их? Невод для них, пожалуй, понадобится? Но нет невода. Хватит, если одного кого-нибудь из стаи вытащим. Наверно, пойдет на крючок самый дерзкий из них.
Улика. Закидывай, если думаешь закидывать, но сначала укрепи получше леску, чтобы он, проглотив золото, не перепилил ее зубами.
Лукиан. Закинуто. Пошли нам скорую добычу, Посейдон! Ого! Дерутся вокруг наживки. Целой стаей накинулись и гложут смокву, а другие припали к золоту… Кончено!.. Один напоролся, самый сильный. Посмотрим. По имени какого же философа ты прозываешься? Впрочем, что я? Смешно в самом деле рыбу заставлять говорить! Ведь рыбы — немы. Тогда ты, Улика, скажи: кто его учитель?
Улика. Вот он, Хризипп.
Лукиан. А, понимаю. Хризиппа выбрал верно потому, что в имени его есть отблеск золота. Итак, во имя Афины, скажи, Хризипп: ты знаешь этих людей? И учишь их так поступать?
Хризипп. Клянусь Зевсом, Храброслов, ты просто обижаешь меня своим вопросом, предполагая, что подобные люди имеют к нам какое-то отношение.
Лукиан. Прекрасно, Хризипп! Ты — благородный человек. Значит и этот — вслед за другими, вниз головой, тем более, что он — в колючках весь и страшно, как бы не пропорол себе желудок кто-нибудь, начав его есть.
52. Философия. Довольно, Храброслов, удить! А то их ведь много- пожалуй, кто-нибудь утащит у тебя золото вместе с крючком и уплывет с ними. Придется тебе потом расплачиваться со Жрицей. Итак, мы уходим, чтобы продолжить нашу прогулку. Да и вам, восставшие из мертвых, время возвращаться туда, откуда пришли, чтбы не опоздать к назначенному сроку. А ты, Храброслов, с Уликой вместе начните обходить философов, всех их по порядку, награждая венками или клеймя, как мы уговорились.
Лукиан. Будет сделано, Философия. Прощайте и вы, мудрейшие из людей. Идем вниз, Улика, исполним, что нам приказано… Но куда же мы прежде всего направимся? В Академию, быть может, или в Стою?
Улика. Начнем с Ликея.
Лукиан. Что ж! Все равно, начнем с Ликея. В одном, впрочем, я уверен: куда бы мы ни отправились, в венках нужды будет мало, а клейма нам постоянно будут нужны.
БЕГЛЫЕ РАБЫ
Перевод Н. П. Баранова
1. Аполлон. Правду ли говорят, отец, что какой-то человек во время Олимпийских игр взял да и вверг сам себя в огонь и что это сделал человек уже пожилой и не простой чудодей из тех, что показывают подобные штуки? Мне Селена об этом рассказывала и говорила, будто она собственными глазами видела, как тот горел.
Зевс. Чистейшая правда, Аполлон. Да только лучше бы этого не случилось!
Аполлон. Такой достойный был старец? И не заслужил того, чтобы погибнуть в огне?
Зевс. Пожалуй. Но я — то имел в виду большую неприятность, которую мне причинил тогда отвратительный чад, подымающийся, как и подобает, от поджаривания человеческого тела. Если бы я не ушел, отправившись как можно скорее в Аравию, я бы конечно погиб, будь уверен, от этого негодного дыма. Однако и там, среди благоухания и роскоши ароматов, в сплошном фимиаме мои ноздри долго не хотели забыть осквернивший их запах и отвыкнуть от него. Даже сейчас при одном воспоминании о нем со мной морская болезнь готова приключиться.
2. Аполлон. Чего же хотел он, Зевс, так с собой поступая? И что за прок: взять и обуглиться, бросившись в костер?
Зевс. Уж в этом, пожалуй, ты, дитя мое, потребуй отчета сначала у Эмпедокла, который тоже ведь прыгнул в жерло огнедышащей горы в Сицилии.
Аполлон. Очевидно, оба жестоко страдали желчью. Но у этого, о котором я спрашивал, была же, наверное, какая-то причина для овладевшего им желания?
Зевс. Я приведу тебе его собственную речь, произнесенную им перед собравшимися в оправдание своей добровольной кончины. Он сказал, насколько я помню…
3. Но что это за женщина спешит сюда, к нам, в смятении и слезах? Она, по-видимому, жестоко чем-то обижена… Да это — Философия! По имени меня кличет, и так жалобно! О чем ты плачешь, дочь моя? Почему покинула людей и явилась сюда? Неужели опять эти невежды вступили в заговор против тебя, как раньше, когда они, по обвинениям Анита, погубили Сократа? Уж не потому ли ты бежишь от них?
Философия. Нет, отец, ничего подобного не произошло. Напротив, вся эта толпа простых людей одобряет и ценит меня, выказывая мне свое уважение и восхищение. Они готовы поклоняться мне, хотя и не очень хорошо разбираются в моих словах. Но вот те, — я уж не знаю, как и сказать, — те, что называют себя моими добрыми знакомыми и друзьями, те, что именем моим прикрываются, — вот кто неслыханно со мной обошелся.
4. Зевс. Как? Философы против тебя составили некий заговор?
Философия. Отнюдь нет, отец: философы и сами вместе со мной обижены.
Зевс. Так кто же тогда обидел тебя, если ты ни ученых, ни неучей не считаешь виноватыми?