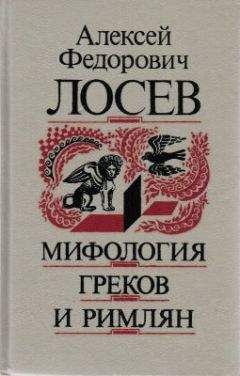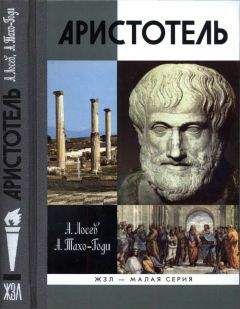63. Гермотим. Что до этого — пусть будет по-твоему, Ликин. Так, значит, как же? Сто лет надо прожить и столько перенести хлопот? Неужели же нельзя иначе философствовать?
Ликин. Никак нельзя, Гермотим; и ничего в этой нет странного, если только ты был прав, сказавши в начале беседы, что жизнь коротка, а наука долга. А сейчас что-то, не знаю, с тобою случилось, и ты уже недоволен, если сегодня же, прежде чем зайдет у нас солнце, ты станешь Хризиппом, Платоном или Пифагором.
Гермотим. Обойти меня хочешь, Ликин, и загоняешь в тупик, хотя я тебе ничего плохого не сделал; очевидно, ты завидуешь мне, потому что я пробивался вперед в науках, а ты вон до какого возраста пренебрегал самим собою.
Ликин. Тогда сделай знаешь что? На меня ты не обращай внимания, как на сумасшествующего корибанта, и предоставь мне молоть вздор, а сам иди себе вперед своей дорогой и доведи свое дело до конца, не меняя своих первоначальных взглядов на эти вопросы.
Гермотим. Но ты же насильно не даешь мне сделать какой-нибудь выбор, пока я всего не подвергну испытанию.
Ликин. И я никогда не отступлюсь от своих слов, можешь быть в этом совершенно уверен. А что насильником ты меня называешь, то, мне кажется, ты обвиняешь меня безвинно, — сошлюсь на самого поэта,333 уже приводимого нами, пока другое его слово, выступив моим союзником, не лишит тебя силы. Только смотри: сказанное в этом слове будет, пожалуй, еще большим насилием, — но ты, оставив в стороне поэта, станешь, разумеется, обвинять меня.
Гермотим. Что же именно? Ведь это удивительно, если какое-нибудь слово его осталось неизвестным.
64. Ликин. Недостаточно, говорит он, все увидать и через все пройти, чтобы суметь уже выбрать наилучшее, — нужно еще нечто, и притом самое важное.
Гермотим. Что же такое?
Ликин. Нужна, странный ты человек, некая критическая и исследовательская подготовка, нужен острый ум да мысль точная и неподкупная, какою она должна быть, собираясь судить о столь важных вещах, — иначе все виденное пропадет даром. Итак, нужно отвести, говорит он, и на это немалый срок и, разложив все перед собою, следует выбирать не торопясь, медленно, взвешивая по нескольку раз и невзирая ни на возраст каждого из говорящих, ни на его осанку, ни на славу мудреца, но брать пример с членов Ареопага, которые творят суд по ночам, в темноте, чтобы иметь перед собою не говорящих, но их слова; и вот тогда, наконец, ты сможешь произвести надежный выбор и начать философствовать.
Гермотим. То есть распрощавшись с жизнью? Ведь при этих условиях никакой человеческой жизни, полагаю, не хватит на то, чтобы ко всему подойти и все тщательно в отдельности разглядеть, да разглядевши — рассудить, да рассудивши — выбрать, да выбравши — зафилософствовать: ведь только таким образом и может быть найдена, по твоим словам, истина, иначе же — никак.
65. Ликин. Не знаю, Гермотим, сказать ли тебе, что и это не все; думаю, что мы и сами не заметили, как допустили, будто и в самом деле что-то нашли, хотя, может быть, не нашли ничего, подобно рыбакам: они тоже часто закидывают сети и, почувствовав какую-то тяжесть, вытаскивают их, надеясь, что поймали множество рыбы, а когда извлекут сети с великим трудом, то взорам их предстает какой-нибудь камень или набитый песком горшок. Смотри, как бы и нам не вытащить чего-нибудь в этом роде.
Гермотим. Не понимаю, к чему тебе понадобились эти сети. Кажется, просто ты хочешь поймать меня в них.
Ликин. Так попытайся из них ускользнуть: ты ведь, с божьей помощью, умеешь плавать не хуже других; я же, со своей стороны, полагаю, что мы сможем обойти всех с целью испытать их и, в конце концов, выполнить это, — и все-таки останется по-прежнему неясным, владеет ли кто-нибудь тем, что нам нужно, или все одинаково не знают его.
Гермотим. Как? Даже из этих людей решительно никто им не владеет?
Ликин. Неизвестно. Разве тебе не кажется возможным, что все они лгут, а истина есть нечто иное, ненайденное, чего ни у кого из них еще нет?
66. Гермотим. Но как это так?
Ликин. А вот так: допустим, у нас будет истинным число двадцать. Пусть, например, кто-нибудь, взявши двадцать бобов в руку и зажавши их, будет спрашивать десять человек, сколько у него в руке бобов; они будут отвечать наугад, кто — семь, кто — пять, а кто пусть скажет тридцать; еще кто-нибудь назовет десять или пятнадцать и вообще один — одно число, другой — другое. Может оказаться, что и случайно кто-нибудь все-таки скажет правду. Не так ли?
Гермотим. Так.
Ликин. Но, конечно, не исключена возможность и того, что каждый назовет какое-нибудь число неправильное, не то, какое есть в действительности, и никто из них не скажет, что бобов у этого человека двадцать. Разве ты не согласен?
Гермотим. Да, вполне возможно.
Ликин. Вот точно так же и философы: все они исследуют блаженство, что это, собственно, такое, и каждый определяет его по-иному: один как наслаждение, другой — как красоту, третий утверждает о нем еще что-нибудь. И возможно, конечно, что блаженство совпадает с одним из этих определений, но не является невозможным, что оно заключается в чем-то другом помимо перечисленного. И похоже на то, что мы перевертываем должный порядок и, не найдя начала, торопимся сразу к концу. А нужно было, я полагаю, сначала выяснить, известна ли истина и владеет ли ею, познав ее, вообще кто-нибудь из философов, а потом уже, после этого, можно было бы по порядку искать, кому следует верить.
Гермотим. Таким образом, Ликин, ты утверждаешь, что, если даже мы пройдем через всю философию, мы и тогда все-таки не сможем открыть истину?
Ликин. Дорогой мой, обращай свой вопрос не ко мне, но опять-таки к самим исследуемым понятиям, и, без сомнения, получишь ответ: да, не сможем, пока будет неясным, является ли истина именно тем, о чем говорит один из этих людей.
67. Гермотим. Никогда, разумеется, судя по твоим словам, мы не найдем ее и не станем философами, но придется нам проводить жизнь как-нибудь, в невежестве, отойдя от философии. Так, по крайней мере, выходит из твоих слов, что стать философом невозможно и недостижимо, — для человека, во всяком случае. В самом деле: ты требуешь от того, кто намеревается философствовать, чтобы он прежде всего выбрал наилучшую философию; выбор же этот, по-твоему, мог бы выйти безошибочным лишь при условии, если мы, пройдя все виды философии, выберем самый истинный; затем, подсчитывая количество лет, достаточное для каждого, ты растянул задачу и, перешагнув свое, скатился в чужие поколения, так что для истины, оказалось, не хватит дней никакой жизни. А в конце концов даже и это ты ставишь под сомнение, объявляя неизвестным, найдена ли истина уже давно и находится у философов или еще вовсе не найдена.
Ликин. Ну, а ты, Гермотим, мог бы клятвенно заверить, что найдена и находится у них?
Гермотим. Я? Нет, я не дал бы клятвы.
Ликин. А скольким еще я умышленно пренебрег ради тебя, хотя оно тоже требует длительного исследования!
68. Гермотим. Что же это?
Ликин. Разве ты не слыхал, что среди причисляющих себя к стоикам или к эпикурейцам, или к платоникам одни знают любое положение этой философии, другие же — нет, хотя в прочих отношениях заслуживают доверия?
Гермотим. Это верно.
Ликин. Итак, определить тех, кто знает, и отличить их от незнающих, хотя они и говорят, будто знают, — не кажется ли это тебе делом очень трудным?
Гермотим. Еще бы!
Ликин. Итак, если ты захочешь узнать, кто лучший стоик, ты должен будешь обратиться, — ну, пусть не ко всем, но, во всяком случае, к большинству из них, испытать их и лучшего поставить своим учителем, предварительно поупражнявшись и приобретя способность разбираться в этих вещах, чтобы незаметно для себя самого не предпочесть худшего. Вот и на это — посмотри сам — сколько еще понадобится времени, которое я умышленно опустил, боясь, как бы не рассердить тебя, — хотя самым-то важным и вместе с тем самым необходимым в таких вопросах, то есть в вопросах неясных и спорных, и будет, по моему мнению, это одно. Нет для тебя иного средства к разысканию истины, кроме одного, но верного и надежного: обладай способностью судить и отделять ложь от истины, отличай, подобно пробирщикам, полноценное и настоящее от поддельного — и, вооруженный этой способностью и знанием, приступай к исследованию предмета нашей беседы, а не то, будь уверен, ничто не помешает всякому провести тебя за нос или приманить свежей веточкой, как барана. Как воду за столом, каждый кончиком пальца будет передвигать тебя, куда захочет, и, клянусь Зевсом, ты станешь подобен прибрежному тростнику, растущему у реки, который гнется под всяким дуновением, когда даже легкий ветер, повеяв, волнует его.