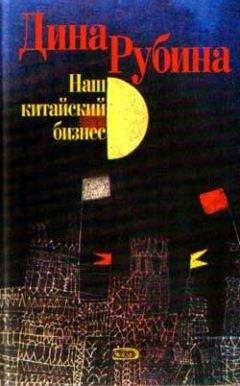— Брось! — крикнула она. — Хватит!
Цирюльник с испугу бросил инструменты и опрометью выбежал наружу.
— Я же говорила: ребенок слабый, — заметила Юэнян. — Самим надо стричь, а не звать кого-то… Одно беспокойство.
На счастье, Гуаньгэ наконец успокоился, и у Пинъэр будто камень от сердца отвалило. Она обняла сына.
— Ишь какой нехороший Чжоу! — приговаривала она. — Ворвался и давай стричь мальчика. Только обкорнал головку да сыночка моего напугал. Вот мы ему зададим!
Она с Гуаньгэ на руках подошла к Юэнян.
— Эх ты, пугливый ты мой! — говорила Юэнян. — Тебя постричь хотели, а ты вон как расплакался. Обкорнали тебя, на арестанта теперь похож.
Она немного поиграла с малышом, и Пинъэр передала его кормилице.
— Грудь пока не давай, — наказывала ей хозяйка. — Пусть пока успокоится и поспит.
Жуи /5/ унесла младенца в покои Пинъэр.
Прибыл Лайань и стал собирать инструменты цирюльника Чжоу. — Чжоу от страха побледнел, у ворот стоит, — сказал он.
— А покормили его? — спросила Юэнян.
— Покормили, — отвечал Лайань. — Батюшка ему пять цяней дал.
— Ступай, налей ему чарочку вина, — распорядилась хозяйка. — Напугали человека. Нелегко ему деньги достаются.
Сяоюй быстро подогрела вина и вынесла с блюдом копченой свинины. Лайань накормил цирюльника, и тот ушел.
— Загляни, пожалуйста, в календарь, — попросила хозяйка Цзиньлянь. Скажи, когда будет день жэнь-цзы.
— Двадцать третьего, в преддверии дня Колошения хлебов, — глядя в календарь, сказала Цзиньлянь. — А зачем это тебе понадобилось, сестрица?
— Да так просто, — отвечала Юэнян.
Календарь взяла Гуйцзе.
— Двадцать четвертого у нашей матушки день рождения, — говорила она, — как жаль, я не смогу быть дома.
— Десятого в прошлом месяце у твоей сестры день рождения справляли, заметила Юэнян, — а тут уж и мамашин подоспел. Вам в веселых домах день-деньской приходится голову ломать, как деньги заработать, а по ночам — как чужого мужа заполучить. Утром у вас мамашин день рождения, в обед — сестрин, а к вечеру — свой собственный. Одни рождения, когда их по три на день, изведут. А какого захожего оберете, всем заодно рождение можно справлять. Гуйцзе ничего не сказала, только засмеялась. Тут вошел Хуатун и позвал ее к хозяину. Она поспешила в спальню Юэнян, поправила наряды, попудрилась и, пройдя через сад, направилась к крытой аллее, где за ширмами и занавесками стоял квадратный стол, ломившийся от яств. Были тут два больших блюда жареного мяса, два блюда жареной утятины, два блюда вареных пузанков, четыре тарелки печенья — розочек, две тарелки жареной курятины с ростками бамбука под белым соусом и две тарелки жареных голубят.
Потом подали четыре тарелки потрохов, вареную кровь, свиной рубец и прочие кушанья.
Все принялись за еду, а Гуйцзе стала обносить вином.
— Я тебе и при батюшке вот что скажу, — обратился к ней Ин Боцзюэ. Не подумай только, будто я чего-то требую, нет. Батюшка насчет тебя в управе разговаривал и все уладил. За тобой теперь никто не придет. А кого ты благодарить должна, а? Мне должна спасибо говорить. Это я батюшку насилу уговорил. Думаешь, стал бы он ни за что, ни про что хлопотать? Так что спой, что тебе по душе, а я выпью чарку. Этим ты и меня за старание отблагодаришь.
— Вот, Попрошайка, вымогатель! — заругалась в шутку Гуйцзе. — Сам-то блоха, а гонору хоть отбавляй! Так батюшка тебя и послушался!
— Ах ты, потаскушка проклятая! — закричал Боцзюэ. — Молитву не сотворила, а уж на монаха с кулаками лезешь? Не плюй в колодец — пригодится напиться. Не смейся над монахом, что он тещей не обзавелся. Да будь я один, я бы с тобой расправился. Брось надо мной смеяться, потаскушка! Ты на меня не гляди, у меня еще силы хватит.
Гуйцзе что было мочи хлопнула его веером по плечу.
— Сукин ты сын! — ругался шутя Симэнь. — Чтоб сыновья твои в разбойники пошли, а дочери — в певички! Да и этого мало будет за все твои проделки.
Симэнь рассмеялся, а за ним и все остальные.
Гуйцзе взяла не спеша в руки пипа, положила ее на колени, приоткрыла алые уста, в обрамлении которых показались белые, как жемчужины, зубы, и запела на мотив «Три террасы в Ичжоу»:
Какой же ты неверный!
Прежние клятвы забыл.
Повстречал красавицу, утренний цветок
И бросил меня в самую весеннюю пору.
Я в тоске одинокой
У перил стою.
Гадаю, почему же и весточки не шлешь,
Когда ко мне вернешься?
Должно быть, жребий мне несчастный выпал.
На мотив «Иволги желтый птенец»:
Разве думала я…
Ин Боцзюэ вставляет:
— …что в спокойной речушке лодку перевернет. Да такого и за десятки лет не услышишь.
Гуйцзе продолжает:
…что так исхудаю,
Поблекну в тоске и увяну?
Боцзюэ:
— А твой милый, дорогой, тютю, уж под водой.
Гуйцзе:
Зеркальце стоит в пыли
И протереть мне нет охоты.
Не хочу ни пудры, ни румян,
Нет мочи приколоть цветок,
Лишь брови хмурю я в тоске…
Боцзюэ:
— Не зря говорят: посетит тысяча, а любовь отдашь одному. Сидишь, наверно, перед зеркалом, вздыхаешь тяжко. И страдаешь, и упрекаешь его. А ведь когда-то любили так пылко. Что ж, нечего роптать! Теперь и пострадай.
Гуйцзе:
— Чтоб тебе провалиться! Не болтай чепухи!
Но не в силах снести…
Боцзюэ:
— Ты не в силах, а как же другие сносят?
Гуйцзе:
На вышке городской рожок играет,
Его напев мне сердце разрывает.
Боцзюэ:
— Ничего! Пока не разорвало. Скажи, меж вами связь порвалась.
Гуйцзе что было сил ударила Боцзюэ и заругалась:
— Ты, видать, совсем уж из ума выжил, негодник! Хватит приставать! Сгинь совсем, разбойник!
Она запела на мотив: «Встреча мудрых гостей»:
Яркий месяц освещает тихое окно,
К ширме припала в тоске одинокой.
Там, за башней, дикого гуся раздался вдруг крик,
Печаль неизбывную во мне он разбудил,
Стражи тянутся, нет им конца.
Не заметила, как светильник потух
И ароматные свечи сгорели, а я очей не сомкнула.
Где спит он так безмятежно и сладко?
Ин Боцзюэ:
— Вот глупая-то! А кто же ему мешает спать спокойным сном? Его никто забирать не собирается. Он спит себе спокойно. Это ты в чужом доме скрываешься и дрожишь день-деньской, как свечка. Вот уж из столицы привезут вести, тогда и успокоишься. Гуйцзе не выдержала и обратилась к Симэню:
— Батюшка, ну что он ко мне пристал, Попрошайка? Покою не дает.
— Что? Батюшку пришлось вспомнить? — издевался Боцзюэ.
Гуйцзе, не обращая на него внимания, опять заиграла на пипа и запела парные строфы:
Как вспомнится он,
Как вспомнится он,
Так сердце мое защемит…
Боцзюэ:
— Заденешь тебя за живое, так хочешь или нет — защемит.
Гуйцзе:
Когда наедине останусь,
Когда наедине останусь,
Так жемчужинами слезы потекут…
Боцзюэ:
— Один во сне мочился. Умирает у него матушка. Он, как полагается, постилает постель и ложится у ее гроба. Во сне и на этот раз случился с ним грех. Пришел народ. Глядит: подстилка мокрая, хоть выжимай. «Это отчего?» — спрашивают. Он не растерялся. «Всю ночь, — говорит, — проплакал. Слезы желудком и вышли». Так вот и ты. Пред ним ломалась, а теперь втихомолку слезы проливаешь.
Гуйцзе:
— А ты знаешь? Ты видал? Эх ты, юнец бесстыжий, чтоб тебе провалиться на этом месте.
Его во всем виню,
Его во всем виню,
О нем всего не скажешь…
Боцзюэ:
— Что ж не винишь судьбу? Скажи откровенно: много у него серебра выманила, а? Да, а теперь вот скрываться приходится, заработки упускать. «О нем всего не скажешь». Ты уж духов небесных обманывай. Они ведь все равно ничего не соображают.
Гуйцзе:
Кто б знал, он меня первый бросил…
Боцзюэ:
— Вот я и говорю: поймала да из рук и выпустила.
Гуйцзе:
Теперь себя ругаю я.
Зачем ему так верила тогда?
Боцзюэ:
— Глупышка! В наше время юнца желторотого не проведешь, а ты захотела посетителя своего надуть. Была, говоришь, ему верна? Постой! Послушай, что в «Южной ветке» говорится. Как раз о твоих похождениях идет речь:
Не узнать, кто честен, кто фальшив.
Ловчить мастак в наш век любой.
Все внешне искренни, правдивы,
А про себя готовы человека загубить.
Старуха-сводня мошну старается набить,
Прославиться стремится юная красотка.
Ей тяжко — хоть в омут головой.
Чашу горькую испить — ее удел.
Легче спину гнуть, как лошадь иль осел,
Нежели жизнь такую влачить!
Гуйцзе расплакалась. Симэнь ударил Боцзюэ веером по голове.