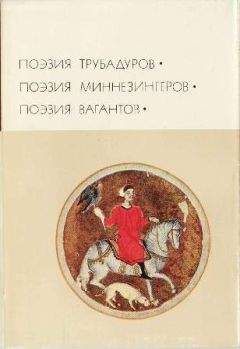* * *
О, ответь мне, лужайка, укрытая в скалах,—
Чья улыбка в покое твоем просверкала?
Чьи шатры под твоею раскинулись тенью?
Кто расслышал твой зов и затих на мгновенье?
Ты, над кем беззакатное золото брезжит,
Так свежа, что в росе не нуждаешься свежей.
Бурным ливнем тебе омываться не надо,—
В зной и в засуху вся ты — родник и прохлада,—
Так тениста, что тени не просишь у склона,
Как корзина с плодами, полна, благовонна,
И тиха до того, что блаженные уши
Каравана не слышат и криков пастушьих.
* * *
Ранним утром смятенье в долине Акик.
Там седлают верблюдов, там гомон и крик.
Долог путь по ущельям глубоким и скалам
К неприступной вершине сверкающей Алам.
Даже сокол не сможет добраться туда,
Только белый орел долетит до гнезда
И замрет на узорчатом гребне вершины,
Как в развалинах замка на башне старинной.
Там на камне седом прочитаешь строку:
«Кто разделит с влюбленным огонь и тоску?»
О забросивший к звездам души своей пламя,
Ты затоптан, как угль, у нее под ногами.
О познавший крыла дерзновенного взмах,
Ты не в силах привстать, утопая в слезах,
И, живущий в горах, над орлиным гнездовьем,
Ты в пыли распростерт и раздавлен любовью.
Вы, уснувшие в тихой долине Акик,
Вы, нашедшие вечности чистый родник,
Вы, бредущие к водам живым вереницей,
Чтобы жажду забыть, чтоб навеки напиться!
О, очнитесь скорей! О, придите сюда!
Помогите! Меня поразила беда
В стройном облике девы, чей голос и взор
Застигают врасплох, как набег среди гор.
Запах мускуса легкий едва уловим,
Вся она — точно ветка под ветром хмельным;
Словно кокон — плывущая линия стана,
Бедра — будто холмы на равнине песчаной.
О хулитель, над сердцем моим не злословь!
Друг, уйми свой укор, не брани за любовь.
Лишь рыданьями только могу отвечать я
На упреки друзей и на вражьи проклятья.
Точно в плащ, я в печаль завернулся свою.
Пью любовь по утрам, слезы вечером пью.
* * *
О, смерть и горе сердцу моему!
О радость духа, о бесценный дар! —
В груди моей живет полдневный жар,
В душе — луна, рассеявшая тьму.
О мускус! Ветка свежая моя!
Что благовонней в мире, что свежей?
Нектар сладчайший — радость жизни всей
С любимых уст твоих впиваю я.
О, луны щек, блеснувшие на миг
Из-под шелков нависшей темноты!
Нас ослепить собой боишься ты
И потому не открываешь лик.
Ты — солнце утра, молодой побег,
Хранимый сердцем трепетным моим.
Я напою тебя дождем живым.
Водою светлой самых чистых рек.
И ты взойдешь, как чудо для очей.
Увянешь — смерть для сердца моего.
Я в золото влюбился оттого,
Что ты в венце из золотых кудрей.
И если б в Еве видел сатана
Твой блеск, он преклонился б и поник;
И, созерцая светоносный лик,
Где красоты сияют письмена,
Свои скрижали бросил бы Идрис,—
Ты для пророка вера и закон.
Тебе одной бы уступила трон
Царица Сабы, гордая Билькис.
О утро, подари нам аромат!
О, ветра благовонного порыв! —
Ее дыханьем землю напоив,
Цветы и ветки нас к себе манят.
Восточный ветер шепчет и зовет
В путь к дальней Кабе… Ветер, усыпи!
О, дай очнуться где-нибудь в степи,
В ущелье Мины, у крутых высот…
Не удивляйтесь, что в тоску свою
Я вплел всех трав и всех ветров следы,—
Когда поет голубка у воды,
Я дальний зов и голос узнаю.
* * *
Лишь следы на песке да шатер обветшалый —
Место жизни пустыней безжизненной стало.
Встань у ветхих шатров и в немом удивленье
Узнавай их — свои незабвенные тени.
Здесь со щек твоих мог собирать я когда-то,
Как с душистых лужаек, весны ароматы.
Просверкав, ты ушла, как в засушье зарница,
Не даруя дождя, не давая напиться.
«Да, — был вздох мне в ответ, — здесь под ивою гибкой
Ты ловил стрелы молний — сверканье улыбки,
А теперь на пустых обезлюдевших склонах
Жгут, как молнии, гребни камней раскаленных.
В чем вина этих мест? Только время виною
В том, что стало с шатрами, с тобою и мною».
И тогда я смирился и стихнул, прощая
Боль мою омертвелому этому краю.
И спросил, увидав, что лежат ее земли
Там, где ветры скрестились, просторы объемля:
«О, поведай, что ветры тебе рассказали?»
«Там, — сказала она, — где пустынные дали,
Средь бесплодных равнин на песчаниках диких
Есть шатры нестареющих дев солнцеликих».
* * *
О, светлые девы, мелькнувшие сердцу мгновенно!
Они мне сияли в дороге у Кабы, священной.
Паломник, бредущий за их ускользающей тенью,
Вдохни аромат их, вдохни красоты дуновенье.
Во тьме бездорожий мерцает в груди моей пламя.
Я путь освещаю горящими их именами.
А если бреду в караване их, черною ночью
Полдневное солнце я на небе вижу воочью.
Одну из небесных подруг мои песни воспели —
О, блеск ослепительный, стройность и гибкость газели!
Ничто на земле состязанья не выдержит с нею —
Поникнет газель, и звезда устыдится, бледнея.
Во лбу ее — солнце, ночь дремлет в косе ее длинной.
О солнце и ночь, вы слились в ее образ единый!
Я с ней — и в ночи мне сияет светило дневное,
А мрак ее кос укрывает от жгучего зноя.
* * *
Я откликаюсь каждой птице
На песню скорби, песню горя.
Пока напев тоскливый длится,
Душа ему слезами вторит.
И порывается, тоскуя,
Сказать певице сиротливой:
«Ты знаешь ту, кого люблю я?
Тебе о ней сказали ивы?»
* * *
Когда воркует горлинка, не плакать я не в силах,
Когда воркует горлинка, я в горестях унылых;
И слезы катятся, и я горючих слез не прячу.
Когда воркует горлинка, я с нею вместе плачу.
Осиротела горлинка — запричитала тонко;
И мать бывает сиротой, похоронив ребенка!
А я на горестной земле за всех сирот печальник.
Хоть бессловесна горлинка — я вовсе не молчальник.
Во мне неутолима страсть к той горестной округе,
Где бьют ключи и горячи в ночи глаза подруги,
Чей взгляд, метнувшись, наповал влюбленного уложит,
Чей взгляд — булат и, как кинжал, вонзиться в сердце может.
Я слезы горькие копил, я знал — настанет жажда,
Я в тайнике любовь хранил, боясь охулки каждой.
Но ворон трижды прокричал, и суждена разлука;
Расстались мы, и мир узнал, кого терзает мука…
Они умчались, в ночь скача, верблюдов погоняли,
И те, поклажу волоча, кричали и стенали.
А я поводьев не рванул, почуяв горечь скачки,
А я верблюда повернул, дышавшего в горячке.
Когда любовью ранен ты, тебя убьет разлука.
Но если встреча суждена — легка любая мука!
Запомни, порицатель мой: доднесь, вовек и ныне
Она одна любима мной — и здесь и на чужбине!
* * *
Когда душа вернулась в тело, они оставили меня.
Я, плачась на судьбину, плакал, происходящее кляня.
А тот, из-за кого я плачу, — он для меня родней отца,
Невыносима с ним разлука, жизнь солонее солонца.
Забыть не мог я взор опасный и сладостный румянец щек.
И сумерки волос прекрасных, и ясный лоб забыть не мог.
И вот снялось терпенье с места, и объявилась скорбь взамен,
А меж терпением и скорбью любовь мне учинила плен.
Кто горю моему поможет? Есть милосердный кто-нибудь?
Кто маету мою разделит? Влюбленному укажет путь?
О! Всякий раз, когда в тревоге я одиноко слезы лью,
Слепя, выплакивают слезы страсть и бессонницу мою.
И если я молю о взгляде, как молят в засуху дожди,
Мне отвечают: «Все обрящешь, но сострадания не жди!
И взгляд не даст успокоенья, твоя неутолима боль!
Взгляд — это молния, не боле; от сострадания уволь!»
Но я, увы, забыть не в силах, как умолял и уповал,
И к молниям искал дорогу — я, пораженный наповал.
Назло всем воронам разлуки, ищу я молнию в песках!
Пускай за карканье и злобу карает воронов Аллах.
Верблюд, ты ворону подобен, усугубителю разлук,—
Невесть куда любовь уносишь, а с ней — моей надежды вьюк.
* * *