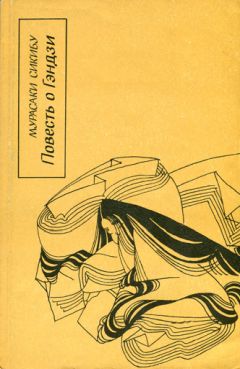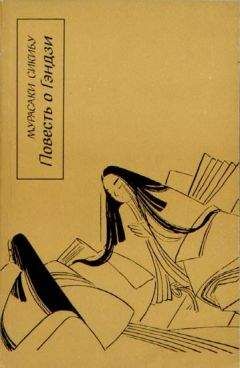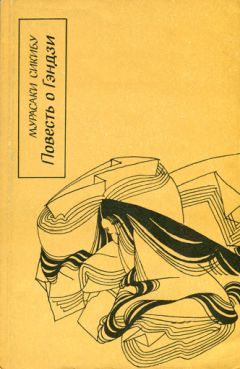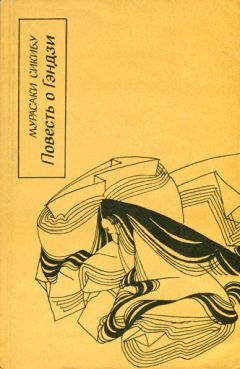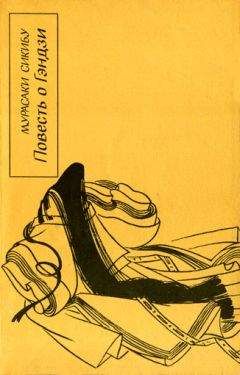Нёго сидела, погрузившись в глубокую задумчивость, когда в покои вошла ее мать. Дневные обряды уже начались, и рядом с нёго никого не было. Этим-то и воспользовалась старая монахиня, чтобы приблизиться к внучке.
— О, как дурно! — рассердилась госпожа Акаси. — Отчего вы не поставили хотя бы низкий занавес? Ветер сильный, довольно одного порыва... Можно подумать, что вы врачеватель[21]. А ведь лет вам уже немало...
Сама-то монахиня полагала, что ведет себя с большим достоинством, но, увы, она была слишком стара, да и туга на ухо, а потому лишь кивала согласно: «Да, да...» Впрочем, не так уж и много ей было лет, всего шестьдесят пять или шестьдесят шесть... В опрятном монашеском платье вид у нее был весьма благородный. Увидев, как блестят ее опухшие от слез глаза, госпожа Акаси сразу же догадалась, что разговор шел о прошлом, и сердце ее мучительно сжалось.
— Боюсь, что монахиня наскучила вам своими небылицами,— улыбаясь, сказала она. — У нее, несчастной, все перепуталось в голове, она часто вспоминает то, чего никогда и не бывало. Порой создается впечатление, что она рассказывает свои сны.
Юная нёго сидела перед ней, прелестная, изящная... Сегодня она казалась молчаливее и задумчивее обыкновенного. Трудно было поверить, что это ее родная дочь, и госпожа Акаси снова возблагодарила судьбу, но тут же встревожилась, подумав, что монахиня, должно быть, взволновала нёго своими рассказами о прошлом. Разумеется, она и сама собиралась рассказать дочери обо всем, но только позже, когда положение ее упрочится. Вряд ли рассказ монахини мог лишить нёго душевного равновесия, и все же она явно была чем-то расстроена. Когда кончились обряды и все разошлись, госпожа Акаси, приготовив плоды, сама поднесла их дочери:
— Скушайте хоть это.
Видно было, что она не на шутку встревожена.
Старая монахиня, с обожанием и умилением глядя на внучку, улыбалась сквозь слезы. При этом она широко разевала рот, ее мокрое лицо некрасиво морщилось...
— Право, вы не должны... — снова попеняла матери госпожа Акаси, знаками предлагая ей взять себя в руки, но старуха не обратила на нее внимания.
— Волны старости
К давно желанному берегу
Меня принесли.
Кто же станет теперь рыбачку
За поблекшее платье корить?
Даже в древние времена стариков положено было прощать[22], — говорит она, а юная нёго, взяв лежащий возле тушечницы листок бумаги, пишет:
«О, когда бы меня
Рыбачка в платье поблекшем
Провела по волнам,
Я смогла б хоть на миг заглянуть
В бедную келью у моря...»
Тут уж и госпожа Акаси не сумела сдержаться и заплакала.
— С суетным миром
Расставшись, нашел он приют
В светлой бухте Акаси.
Но когда ж наконец душа его
Перестанет блуждать во мраке? (3) —
отвечает она, стараясь скрыть слезы.
«О, если б хоть во сне могла я увидеть тот рассвет, когда расставались мы с Вступившим на Путь!» — думала юная нёго.
Примерно на Десятый день Третьей луны она благополучно разрешилась от бремени. Тревоги остались позади, и в доме на Шестой линии воцарилось веселье, тем большее, что сама нёго чувствовала себя прекрасно, а младенец был мужского пола. Наконец-то Гэндзи вздохнул с облегчением.
Покои, куда временно поместили нёго, располагались в стороне от основной части дома, ближе к людским. Мимо сновали гонцы с дарами, шумно отмечая положенные дни, и, хотя старой монахине казалось, что она попала наконец на «берег желанный», для праздничных церемоний это помещение не подходило, поэтому решено было перевести нёго в прежние покои. Госпожа Мурасаки пришла ее навестить.
Облаченная в белое платье гостья с материнской нежностью прижимала к себе младенца, прелестная как никогда. Сама не имевшая подобного опыта и даже ни разу не присутствовавшая при столь важном событии, госпожа не уставала изумляться и восхищаться. Она взяла на себя все заботы о младенце в эти первые, самые трудные дни, и настоящая бабушка, полностью положившись на нее, ограничилась участием в церемонии Омовения, подготовку которой поручили Найси-но сукэ, доверенной даме принца Весенних покоев. Эта Найси-но сукэ была приятно поражена утонченностью своей помощницы, а поскольку и до нее дошел слух о некоторых тайных обстоятельствах, касающихся этой особы, она невольно думала, на нее глядя: «Юная нёго была бы достойна сожаления, будь ее мать хоть в чем-то несовершенна, но благородству этой дамы можно только позавидовать. В самом деле, что за необыкновенная судьба выпала ей на долю!» Да, но стоит ли подробно рассказывать обо всех церемониях и обрядах, связанных с этим событием?
На Шестой день госпожа нёго переехала в свои обычные покои. На Седьмой[23] — явился гонец с подношениями от самого Государя. Поскольку Государь из дворца Судзаку к тому времени окончательно отошел от мира, великолепнейшие дары от его имени поднес То-но бэн из Императорского архива.
Государыня изволила прислать шелка для участников церемонии — право же, ничего более прекрасного не видывали даже во время дворцовых празднеств. Принцы крови, министры — все только и думали о том, как бы затмить друг друга роскошью подношений.
Даже сам хозяин дома на Шестой линии на этот раз забыл об умеренности и устроил столь пышное празднество, что слава о нем долго еще гремела по миру. К сожалению, ослепленные этой пышностью гости не обратили внимания на многие мелочи, достойные восхищения тонких ценителей, а ведь именно о таких мелочах и стоит рассказывать.
— Я всегда обижался на Удайсё за то, что он не показывает мне своих детей, которых у него уже немало, — говорил Гэндзи, нежно прижимая младенца к груди. — Но это прелестное существо способно вознаградить меня за все обиды...
Младенец и в самом деле был удивительно хорош. Он рос не по дням, а по часам, словно кто-то тянул его вверх. Не желая доверять его воспитание случайным, лишенным надлежащей тонкости особам, решили отобрать кормилиц и служанок из числа прислуживающих в доме дам, которых происхождение и душевные качества соответствовали столь высокому назначению.
Госпожа Акаси заслужила всеобщее одобрение изяществом вкуса, умением держаться с достоинством и вместе с тем смиренно, без малейшей кичливости. Госпожа Весенних покоев время от времени встречалась с ней, никого не ставя о том в известность.
Когда-то она неприязненно относилась к этой особе, но благодаря общим заботам о маленьком принце женщины сблизились и неприязнь уступила место уважению. Госпожа Мурасаки, всегда любившая детей, сама делала охранных кукол[24], рукодельничала целыми днями — и словно помолодела. С утра до вечера хлопотала она возле младенца. А престарелая монахиня кручинилась — увы, ей так и не удалось вволю насмотреться на маленького принца. «Ах, уж лучше бы мне вовсе не видеть его!» — вздыхала она, и жизнь казалась ей лишенной всякого смысла.
Между тем весть о столь значительном событии дошла до Акаси, и отрекшийся от мира отшельник возрадовался чрезвычайно.
— Теперь ничто не мешает мне покинуть пределы этого мира,— заявил он ученикам и отдал под храм свое жилище на побережье с примыкающими к нему угодьями. Давно уже приобрел он участок земли в дикой, недоступной местности в глубине страны, но до сих пор не решался поселиться там, понимая, что это окончательно отдалит его от мира людей, с которым он чувствовал себя связанным, ибо кое-что еще внушало ему беспокойство. Однако, получив радостное известие, вздохнул с облегчением: «Наконец-то...» — и, вручив свою судьбу буддам и богам, перебрался в горы.
В последнее время без особой надобности он никого не посылал в столицу. И только когда кто-то приходил к нему с вестью оттуда, передавал краткие, в несколько строк, послания для старой монахини. Теперь же, собираясь окончательно распроститься с миром, Вступивший на Путь написал письмо для госпожи Акаси.
«Все эти годы я жил в одном мире с Вами,— писал он,— но не решался докучать Вам своими письмами. К тому же я давно уже чувствую себя принадлежащим к иному миру. Читать письма, написанные женскими знаками,— пустая трата времени, они отвлекают меня от служения Будде, а это может неблагоприятно сказаться на моем будущем. Тем не менее с великой радостью воспринял я весть о том, что наша юная госпожа стала прислуживать в Весенних покоях и родилось у нее дитя мужского пола. Разумеется, ничтожному жителю гор не пристало помышлять о мирской славе, но, не скрою, долгие годы предавался я суетным мыслям и во время всех шести служб молился только о Вашем будущем, пренебрегая молитвами о собственном возрождении в земле Вечного блаженства. На Вторую луну того года, когда Вы родились, как-то ночью увидел я удивительный сон. Мне снилось, что в правой руке я держу священную гору Сумэру[25], справа и слева от которой сияют луна и солнце, озаряя светом весь мир. И только я, заслоненный горой, остаюсь в тени. Опустив гору в широкое море, я сел в утлый челн и поплыл к западу… Пробудившись, я понял, что теперь и я, ничтожный, могу позволить себе уповать на будущее. Непонятно было одно — что откроет мне дорогу к такому величию? С того дня супруга моя понесла. Читая мирские книги и постигая глубокий смысл Учения, я получил немало доказательств того, что снам можно верить, и, обратив на Вас все сердечные попечения свои, решил, не считаясь с ничтожеством собственного положения, дать Вам воспитание, достойное особы самого высокого звания. Не имея достаточных для того средств, я решился поселиться в провинции. Преследуемый неудачами и окончательно примирившийся с тем, что даже волны старости не занесут меня снова в столицу, я остался жить у этого залива, надеясь только на Вас, и множество тайных обетов было дано мною за эти годы. Ныне осуществилось все, о чем я просил, и пришло время исполнить данные обеты. Когда наша юная госпожа станет Матерью страны — а в этом можно уже не сомневаться,— отслужите благодарственные молебны во всех храмах, и в первую очередь в храме Сумиёси. Я знаю, что ждать осталось недолго, и, как только это произойдет, осуществится и другое мое желание — я смогу наконец удалиться в страну на Западе, мириадами земель от нашего мира отделенную, и занять там высшее из девяти мест[26]. Пока же не откроется для меня чудесный цветок Лотоса, стану жить в горах, где „чисты воды и травы“ (293), отдавая дни молитвам. Туда и отправляюсь теперь…