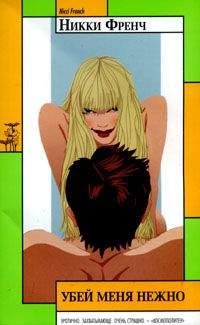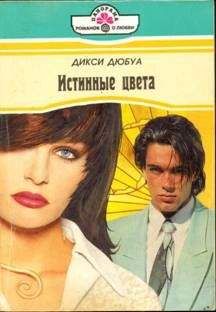— А какое время года ближе вашему сердцу?
Вторая дама ответила, что ей милее осенняя ночь, и я, решив, что не стоит повторяться, ответила так:
И неба бирюза,
И вишен цвет,
Всё дымкою окутано весенней,
И призрачною кажется луна
Весенней ночью.[88]
Он несколько раз вслух произносил эти строки, а потом спросил:
— Так вы не признаёте красоту осенней ночи? — и прочёл стихотворение:
После этой ночной беседы,
Если дней мне судьба отпустит,
Стану весенние ночи
Вашим считать подарком,
Оставленным мне на память.
Тогда дама, выказавшая предпочтение осени, прочла:
Кажется, все вокруг
Сердце весне отдали,
Неужели совсем одной
Любоваться мне суждено
Луною осенней ночи?
Кажется, нашему гостю беседа была интересна, и с задумчивым видом он продолжал:
— Даже в Китае издавна повелось, что предпочесть весну или осень люди находили непростым делом. Вероятно, есть причина в том, что каждая из вас сумела выбрать, что близко её сердцу. Кажется мне, что когда сердце чем-то взволновано, когда что-то кажется нам печальным или прекрасным, то в такие минуты и небеса над нами, и луна, и цветы глубоко запечатлеваются в душе. Мне очень хотелось бы знать, какой узелок в судьбе заставил вас избрать весну или же осень. Исстари луну в зимнюю ночь приводят в качестве примера, когда говорят о вещах прозаических, лишенных прелести, да к тому же в зимнюю пору слишком холодно любоваться луной — и я никогда не обращал к ней взора. Но вот, как посланец императора, я поехал в Исэ по случаю совершеннолетия принцессы-жрицы и обряда надевания юбки «мо»[89]. К рассвету я хотел уже вернуться в столицу, но когда увидел яркий отблеск месяца на снегу, выпавшем за эти дни, и представил, что вот под этим «небом странствий» и лежит мой путь, то душе стало тревожно и неуютно. Когда я явился с прощальным визитом к принцессе, то был приглашён в зал, предназначенный для подобных случаев, равного ему больше нет, ибо всё там внушает трепет благоговения. Служительницы, которые пребывали здесь ещё во времена государя-отшельника Энъю[90], сами казались божествами, от них словно веяло стариной и благолепием. Они поведали множество историй о делах минувших, и на глазах у них были слезы, а потом они достали тончайше настроенную лютню «бива», и, слушая их игру, я позабыл сей мир и жалел, что эта ночь когда-нибудь кончится, — а о столице уж и вовсе не вспоминал. Вот с этих-то пор и проникся я красотой снежной зимней ночи, и пусть с жаровней под боком, но непременно выхожу на веранду ею полюбоваться. И у вас, я думаю, непременно есть причина любить то или иное время года. А я отныне запечатлел в своём сердце и тёмную осеннюю ночь, когда в непроглядной черноте идёт долгий дождь. Она, пожалуй, не уступит той снежной ночи во дворце принцессы-жрицы, — с этими словами он попрощался и ушёл. Лишь после я подумала, что он так и не спросил, кто я.
***
На следующий год, в восьмую луну, я опять сопровождала принцессу в императорский дворец, В зале для высших чинов всю ночь музицировали, но я не знала, что там был и тот человек. До утра я не сомкнула глаз в одной из комнат для младших дам, и наконец открыла дверь, которая выходила в узкую крытую галерею, и выглянула — очень интересно было любоваться бледным рассветным месяцем, то ли есть он, то ли нет его… Тут раздался стук деревянной обуви, и появился какой-то человек, который декламировал сутру. Декламировавший сутру остановился возле моей открытой двери и завёл разговор — я что-то ответила, и он вспомнил:
— А, та ночь, когда шёл долгий дождь! Я не забывал её ни на минуту и дорожу ею до сих пор.
Говорить много обстоятельства не позволяли, и я произнесла лишь:
Но отчего?
И что влечёт воспоминанья?
Такой обыденный
Осенний долгий дождь
Стучал по листьям…
Я едва успела договорить, как подошли ещё люди, и я скрылась в глубине комнаты, а вечером этого дня покинула императорский дворец. Поэтому свой ответ на моё стихотворение он передал через известную уже даму, которая в ту ночь была с нами: «Как-нибудь, когда снова будет лить долгий дождь, я хотел бы сыграть для вас на «бива», насколько, конечно, позволит моё умение…» — так он говорил. Это звучало очень заманчиво, и я ждала, когда же выпадет случай, но этого так и не случилось.
Однажды весенними тихими сумерками мы услышали, что человек этот во дворце принцессы, и с дамой, с которой были и прежде, решили выйти из своих покоев, однако всё время приходили какие-то люди, да и в комнатах, как обычно, были дамы, и мы передумали и вернулись к себе. Он, наверное, решил так же — хотел, видимо, спокойно провести вечер, для того и пришёл, а тут оказалось так шумно и людно, что он удалился. Для себя я сложила вот эти стихи, и ими всё закончилось:
На Касима украдкой бросив взор,
Сгорая, отворила двери
И в бухту Наруто гребу —
Рыбак на взморье,
Что на сердце моём ты угадал?[91]
Это был необычный человек, не такой, как другие, серьёзный, не в его характере было выспрашивать, что стало с той, и кто такая эта — он просто ушёл.
* * *
Теперь я глубоко раскаивалась в том, что раньше была так беспечна, и горько сожалела, что родители в юности не водили меня на богомолье. Нынче я разом стала и богата, и вольна в решениях, я могла на своё усмотрение заботиться о нашем юном росточке[92], да и о себе. Раз уж горой Микура скопились у меня сокровища, то я укрепилась в мысли о том, что следует побеспокоиться о грядущей жизни в мире ином.
В двадцатых числах месяца «симоцуки» я отправилась на поклонение в Исияма. Густо падал снег, и даже то, что я видела вдоль дороги, казалось очень живописным. Когда же я взглянула на заставу Аусака, то мне вспомнилось, что давным-давно в детстве мы тоже миновали её зимой, и точно так же бушевал тогда ветер.
На Заставе Встреч Аусака
Дует ветер на перевале,
Голос ветра уже я знаю,
Я когда-то его слыхала,
Он и теперь всё тот же.
А когда я увидела величественное здание храма Сэкидзи[93], и мне вспомнилось, что в прошлый раз можно было различить лишь начерно вырезанные контуры лица Будды, я остро почувствовала, сколько миновало с той поры лун и лет. А побережье Утиидэ[94] ничуть не переменилось и выглядело совершенно так же, как тогда.
Мы добрались до места уже в сумерках, сначала вошли в покои для омовений, а затем наконец вступили в пределы главного святилища. Людских голосов слышно не было, только устрашающий свист горных ветров. Я стала молиться и посреди молитвы задремала — во сне мне явился человек, который изрёк: «Из серединного зала пожаловали нам ароматный мускус. Скорее пойди и скажи им об этом»[95]. Я очень удивилась, и только когда сообразила, что это сон, подумала, что, может быть, он принесёт мне что-то хорошее, и всю ночь провела в молитвах. На следующий день опять был сильный снегопад, и я, чтобы развеять уныние, беседовала с сопровождавшей меня дамой, с которой мы сблизились ещё во время службы во дворце. Всего я провела там три дня, а затем вернулась.
* * *
На следующий год, двадцать пятого числа десятого месяца, объявлена была церемония высочайшего очищения по случаю Великого Благодарения[96], и об этом много шумели, а я уже начала поститься, чтобы идти на поклонение в храм Хасэ, и решила как раз в этот день покинуть столицу. Близкие говорили мне: «Такое можно увидеть лишь один раз за царствование, даже из глубинки идут люди, чтобы посмотреть на это. В году немало других месяцев и дней — разве не безумство именно теперь уезжать из столицы? Да это же войдет в притчу, все станут о тебе говорить!» Брат был очень сердит на меня, а вот отец моего мальчика позволил мне поступить, как я хотела, и пойти на богомолье: «Как знаешь, как знаешь… Делай, как тебе по сердцу», — и я очень была растрогана его заботой. Те же, кто собирался идти вместе со мной, похоже, больше заинтересовались зрелищем, и мне было их жаль. — Что проку глазеть? А вот паломничество в такой момент непременно зачтется мне и будет отмечено самим Буддой, — так я думала, и, твердо решив ехать, на рассвете следующего дня отправилась.
Когда мы шествовали по Второму проспекту — впереди глашатаи с жертвенными светильниками, свита в белых одеждах, — то во множестве устремившиеся к галереям для зрителей люди, конные, пешие и в экипажах, удивленно спрашивали: «А это что? А эти куда?», — и кое-кто усмехался, а то и вышучивал нас. Когда мы проходили мимо усадьбы начальника дворцовой гвардии Ёсиёри, он как раз отправлялся, чтобы занять свое место на зрительских рядах: ворота были широко открыты и возле них стояли люди. Одни смеялись над нами: «Уж не богомольцы ли? Мало им дней в году!» Но был среди них и разумный человек: «К чему послужит нам то, что мы будем услаждать свой взор? А этих людей, укрепившихся в вере, Будда, несомненно, пожалует своей милостью. Как мы суетны! Заняты зрелищами, а надо бы, как они, молиться», — но только он один был такой рассудительный.