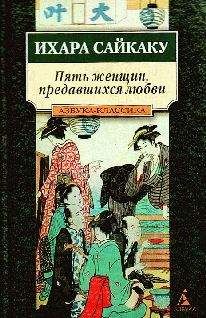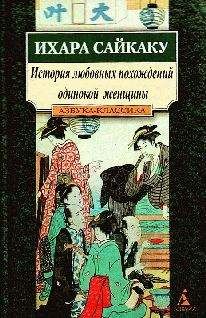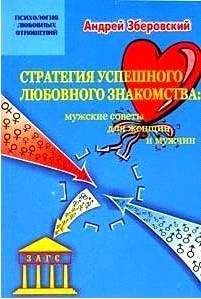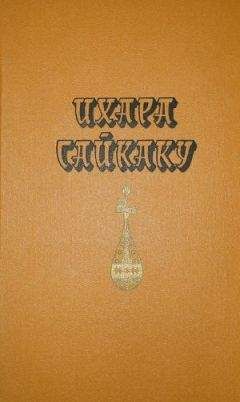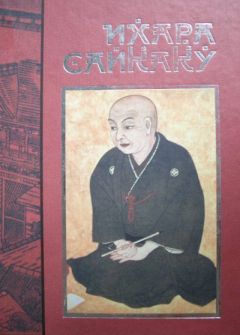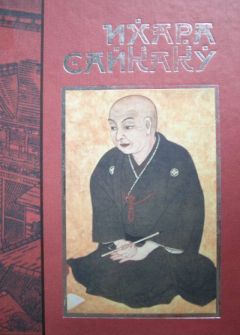Наконец она совсем потеряла голову, страсть так и горела в ее взглядах, желание проявлялось в ее речах.
«И прежде бывали такие примеры. Надо бы как-нибудь помочь ей», — думали, жалея О-Нацу, ее служанки. И тем временем сами все влюбились в Сэйдзюро.
Домашняя швея уколола себя иголкой, написала кровью о том, что у нее на сердце, и послала ему. Девушка, прислуживающая в комнатах, обратилась к кому-то за помощью, и вот мужской рукой было написано послание, которое она и опустила в рукав [14] Сэйдзюро. Горничная то и дело подавала в лавку чая, хотя там никто в нем не нуждался. Кормилица подходила к Сэйдзюро, совала ему в руки младенца, и тот оставлял свои следы у Сэйдзюро на коленях.
— Ты поскорее расти и становись таким, как господин Сэйдзюро, — говорила она. — Вот и я тоже — родила прекрасного ребенка и пришла сюда в кормилицы. Муженек мой оказался никудышным, сейчас, говорят, отправился в Хиго, что в Кумамото, и там поступил на службу. Когда хозяйство наше распалось, я получила от него разводное письмо и теперь живу без мужа. А по правде сказать, от природы я пухленькая, рот невелик и волосы немного завиваются…
Право, смешно становилось, когда она сюсюкала, кокетничая сама с собой.
Служанки тоже надоедали — когда, бывало, с черпачком к руке разливают суп из соленого тунца, то выберут лакомые кусочки и хлопочут: это, мол, господину Сэйдзюро.
Такое внимание было ему и приятно, и досадно. Служба в лавке пошла побоку, некогда было я вздохнуть: столько приходилось рассылать писем с разными, отговорками.
Вскоре и это ему опротивело, он ходил как во сне.
Между тем О-Нацу заручилась посредником и то и дело слала ему любовные письма, так что и Сэйдзюро впал в смятение. В душе он уже готов был пойти навстречу желаниям О-Нацу, но как это сделать? Дом полон людских глаз, вряд ли здесь могло что-нибудь выйти. Они только разжигали друг друга, обоих томила любовная страсть. День ото дня оба менялись в лице, спадали с тела.
Время берет свое. Дошло до того, что для них стало радостью даже слышать голос друг друга. Ведь пока есть жизнь — есть и надежда. И они думали: когда-нибудь прорастут семена, что посеяла наша любовь.
Но тут между ними встала невестка. Каждую-каждую ночь она накрепко запирает внутреннюю дверь, неусыпно следит за огнем, и вот скрип дверных роликов сделался для обоих страшнее грома небесного.
Танец в львиных масках под барабан
На вершинах гор цветут вишни, женщины хвалятся своей наружностью, матери выводят напоказ привлекательных девушек. На цветы и не смотрят, идут показать себя людям, — таковы нравы нашего времени. Что ни говори, женщина — это оборотень, она способна, пожалуй, разгадать и тайные помыслы старой лисы из Химэдзи [15].
В доме Тадзимая все собрались в поле на весенний пикник. Женщин усадили в носилки, а следом отправили Сэйдзюро наблюдать за порядком.
Уже сосны Такасаго и Сонэ покрылись свежей хвоей, вид на песчаное побережье — как прекрасная песни.
Деревенские ребятишки разгребают граблями опавшие листья, собирают весенние грибы, срывают фиалки и цветы тростника — интересное зрелище. И все женщины наперегонки рвали молодую траву, а там, где трава растет пореже, расстелили узорчатые циновки.
Море было спокойным, багрянец вечернего солнца соперничал с цветом рукавов женских одежд. И все, кто здесь был, не думали ни о глициниях, ни о цветах яблони, — их влекло заглянуть за самодельные занавески из накидок, а заглянув, они там и оставались, забывая о возвращении домой. Откупорили бочку с вином. Опьянение — вот в чем радость! Всё в сторону, сегодня мы, женщины, — закуска к вину… словом, веселились порядком. Это был женский праздник, из мужчин — один лишь Сэйдзюро. Служанки пили вино чайными чашками, вспоминали о былом и плясали, хмельные, не хуже бабочек. Они ни о чем не заботились и наслаждались не спеша, с таким видом, словно все эти поля принадлежат им.
Но вот сбежались люди. С барабанным боем явились скоморохи. Они всегда ищут, где веселятся, и исполняют танцы в львиных масках. Все обступили их, женщины — они охотницы до развлечений — не помня себя рвались посмотреть, отталкивая друг друга, и не могли оторваться. И скоморохи в свою очередь не покидали облюбованного места и показывали все штуки, какие умели.
О— Нацу не смотрела на представление и оставалась одна за занавеской. Она сделала вид, что ей не по себе, -зубы болят, кое-как подложила рукава своего кимоно в изголовье, пояс оставила незавязанным и, укрывшись за грудой в беспорядке наваленной одежды, притворно захрапела. Неприятная это была картина. Так уж умеют эти городские женщины в нужный момент позаботиться обо всем до мелочей, и в ловкости их тут не превзойдешь.
Заметив, что О-Нацу осталась одна, Сэйдзюро проскользнул к ней боковой тропинкой между густыми соснами, и О-Нацу поманила его. Прическа ее была в беспорядке, но им было не до того. Они не произнесли ни слова, сжали друг другу руки и забыли обо всем на свете. Лишь сердца у обоих трепетали от радости.
Одного они боялись: не застала бы их невестка. Поэтому они не отрывали глаз от щели в занавеске, а о том, что позади, ничуть не беспокоились. Когда же, поднявшись, оглянулись — там стоит дровосек и с наслаждением смотрит, сбросив на землю вязанку и сжимая в руках свой нож, и на лице у него словно написано: «Ай-яй-яй, вот так штука!»
Всегда так бывает в подобных делах: голову спрячешь, а хвост вылезет.
Скоморохи, увидев, что Сэйдзюро вышел из-за занавески, прервали представление на самом интересном месте, и зрители были весьма разочарованы: ведь оставалось еще многое. Но горы уже покрылись густым туманом, и солнце склонилось к западу, поэтому все возвратились в Химэдзи.
И казалось ли это только, что походка О-Нацу стала какой-то плавной?
Сэйдзюро, следуя позади всех, сказал скоморохам: «Благодарю, благодарю за сегодняшнее!» Право, услышав его, даже самый мудрый из богов не догадался бы, что празднество было ненастоящее, что все это — одна лишь уловка для отвода глаз. Где же тут проведать об истине невестке, которая дальше своего носа ничего не видела!
Скороход, оставивший в гостинице свой ящик с письмами
Поскольку корабль их, если так можно выразиться, уже отплыл от берега, Сэйдзюро решил выкрасть О-Нацу и бежать с нею в Камигату*; поэтому он торопился, чтобы до захода солнца захватить лодку, уходящую из Сикамацу. Пусть даже суждено им долгие дни терпеть нужду, вдвоем как-нибудь проживут, — так они решили. Не теряя времени переоделись и в пустой хибарке на побережье стали ждать лодку.
В путешествие каждый отправляется по-своему. Здесь и паломник, направляющийся в Исэ [16], и продавец бутафории из Осаки; оружейник из Нары и заклинатель из Дайго; простолюдин из Такаямы и уличный продавец москитных сеток; галантерейщик из Киото и прорицатель из храма Касимы. Словом, «десять человек — десять разных провинций». Поистине, лодка с такими людьми — интересное зрелище.
Вот кормщик громким голосом возвестил:
— Внимание! Внимание! Отправляемся! Каждый пусть вознесет про себя молитву, а сюда пожалуйте приношение для Сумиёси-сама [17]. — Потряхивая ковшом, он пересчитал всех, кто был в лодке, и каждый — и пьющий, и непьющий — выложил по семь мон [18].
Котелка, чтобы подогреть сакв, не было, в бочонок погружали суповые чашки, а закусывали сушеной летучей рыбой. От двух-трех чашек, выпитых наспех, все захмелели.
— Почтенным пассажирам удача: ветер дует нам в корму, — сказал кормщик и поднял парус.
И вот, когда отошли от берега уже более чем на ри [19], один пассажир, скороход из Бидзэн, неожиданно всплеснул руками: «Ох, забыл!»
Оказалось, что этот человек оставил свой ящик с письмами в гостинице, хотя и привязал его к мечу. И вот, обернувшись к берегу, он завопил:
— Эй! Я его там прислонил к алтарю и так оставил!
В лодке заговорили наперебой:
— Что же, тебя отсюда услышат, что ли? А твои… оба ли при тебе?
И скороход, озабоченно пощупав себя, заявил:
— Да, оба на месте!…
Тут все разразились хохотом и решили:
— Он, видно, во всем такой простак. Поворачивай лодку обратно!
Пустились обратно и снова вошли в гавань. Все сердились, говоря, что сегодня пути не будет. Наконец лодка пристала к берегу, а тут ее встретили посланные иа Химэдзи.
— Может быть, в этой лодке? — и они принялись искать среди пассажиров.
О— Нацу и Сэйдзюро некуда было деваться. «Какое несчастье!» -вот и все, что они могли сказать.
Но те, жестокосердные, не слушали их жалоб. О-Нацу тут же посадили в глухие носилки, Сэйдзюро связали веревками и так доставили обоих в Химэдзи.
Не было никого, кто бы не проникся сочувствием к ним, видя их безграничное отчаяние.
С этого дня Сэйдзюро находился под домашним арестом. Но даже и в такой печали он думал не о себе и твердил лишь одно: «О-Нацу! О-Нацу!» Не забудь тот разиня свой ящик, теперь они уже прибыли бы в Осаку, сняли бы флигелек где-нибудь возле Кодзу, ваяли старушку для услуг и первым делом пятьдесят дней и пятьдесят ночей наслаждались бы любовью. Так условлено было с О-Нацу, а теперь — о горе! — все это лишь минувший сон. «Убейте меня кто-нибудь! Каждый день бесконечно долог! Жизнь мне уже опротивела!» И он тысячу раз сжимал зубами свой язык [20] и закрывал глаза, но жаль было О-Нацу: хотелось ему еще хоть раз, на прощанье, увидеть ее прекрасное лицо. Не думая о стыде, о людском осуждении, он заливался слезами. Наверное, таковы они и есть, настоящие мужские слезы!