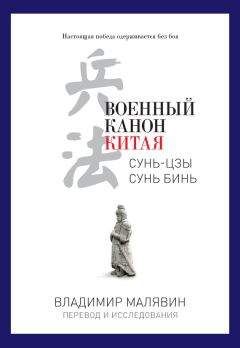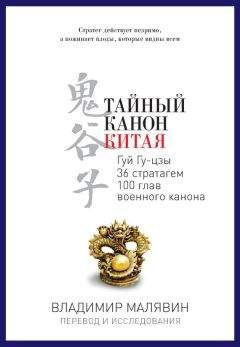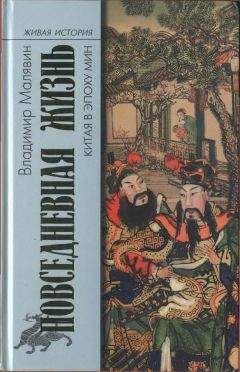В конечном счете, мудрый военачальник, согласно Сунь-цзы, являет собой как будто неразрешимое противоречие в духе даосского описания «праведных мужей древности»: он «строг, а излучает доброту», бдителен и потому держится так, словно «ступает по тонкому льду», он использует людей так, чтобы сохранить цельность их природы в духе изречения Лао-цзы: «Великий резчик ничего не разрезает». А главное, он водворяет порядок и дисциплину вокруг себя именно невозмутимым покоем души, ведь этот покой идет от бескорыстной открытости миру, его великой «широты души» (не путать с условной щедростью господина). Сунь-цзы, таким образом, одним из первых внес свой весомый вклад в традиционный китайский идеал исправления мира посредством усилия самоосознания, самораскрытия сознания – по определению нравственного. Покой делает мудрого командира одновременно непрозрачным для подчиненных, поскольку он пребывает «прежде вещей», и авторитетным для них, ибо он целиком включен в поток сообщительности жизни и безупречно соответствует их ожиданиям.
Европейская мысль охотно признает и даже оправдывает неизбежность присутствия зла в человеке – возможно, потому, что христианская традиция не признает за человеком способности самостоятельно одолеть свою греховную природу. «Мы легко прощаем себе свою вину, если она известна только нам самим», – в этих словах Ларошфуко отобразилось столь многое из европейской духовности, склонной даже эстетизировать зло. Со времен Макиавелли европейская политическая мысль никак не может примирить силу с добродетелью, пусть даже в латыни эти слова пишутся почти одинаково. Напротив, китайское стратагемное мышление всегда отстаивало единение силы и добродетели, даже если это единение относится больше к области идеальных представлений, нежели реальной жизни.
Тот, кто одолел себялюбивое «я» и открыл в своем опыте небесную глубину, умиротворен и безмятежен. Еще Конфуций называл непременной чертой высоконравственного мужа его непоколебимое спокойствие. Покой, прозорливо отмечает Сунь-цзы, дает необыкновенную ясность сознания и делает командира непроницаемым для его подчиненных. Покой приходит тогда, когда нет беспокойства о своей личной судьбе. Прям тот, кто способен объять собою весь мир. Таков китайский мудрец – тот, кто убирает себя в себя и так предоставляет (фан) всему пространство быть. Убирая себя из мира, он вбирает мир в себя. Мир расцветает в зеркале просветленного сердца. И тот, кто дал ему расцвести, не попирает его цветов. Для мудрого стратега величественное цветение жизни – само по себе высшая награда. Вот так для китайцев пространство стратегического действия есть духовное поле воли, пространство «опустошенного сердца», высвобожденное, расчищенное от завалов предметности опыта усилием «самоустранения». По сути, это виртуальное пространство предвкушаемой жизни – не имеющее протяженности, но всеобъятное, опознаваемое внутри себя и потому моральное, хотя и лишенное субъективности.
Жизнь в пустоте, подчеркнем еще раз, не подразумевает аскетического умерщвления чувственной природы. Пустотности бодрствующего сознания китайского мудреца-стратега соответствует не пустыня абстракций, а, напротив, царственное богатство бытия, «жизнь преизобильная» творческого духа. Не случайно в китайской культуре со временем развился тонкий вкус к эстетизации решительно всех моментов чувственного восприятия, всех проявлений телесной интуиции и всех деталей человеческого быта, к выстраиванию всеобъемлющего образа «изящной жизни». Достаточно даже краткого знакомства с интерьером китайского дома, с китайским садом или пейзажной живописью, чтобы убедиться: китайцы умели ценить свойства любого материала и любили жизнь «во всех ее проявлениях». Предметная среда в китайском доме и саде складывается в бесконечно сложную паутину символических «соответствий» (в том числе, конечно, и литературных), и дух вольно скитается в этом пространстве непрерывного «самообновления» бытия, вечной свежести жизни, ежемгновенно открывая новые горизонты, не зная пресыщения. Мудрость китайского стратега есть, помимо прочего, необычайно обостренное чувствование эстетических качеств жизни. Но его чувствительность, в конечном счете, означает внимание к запредельному в опыте, чувствование внутренней глубины предсуществования, где река жизни растворяется в бездне вечности. Тот, кто живет «семенами» вещей, живет вечнопреемственностью духа.
Равным образом непрозрачность стратега для окружающих не имеет ничего общего с нарочитой скрытностью. Речь идет о строгой размеренности поведения, отсутствии в жизни излишеств – одним словом, о традиционном идеале «Срединного Пути». Это поведение приводит все душевные состояния и наклонности к полному равновесию и поэтому предстает как бы лишенным качеств. Но оно – психологический прообраз «круговорота форм» и устремленности к «срединному пределу», составляющих ядро китайской стратегии.
Воин-мудрец открывает себя бездне перемен. В этом он утверждает свою свободу и свою мужественность, как сказал Чжуан-цзы,
Малый страх делает робким.
Великий страх делает свободным.
Есть великая загадка в том, что для мудреца, «убравшего мир» и умершего для мира, мир открывается во всем великолепии своих форм, красок и звуков: «Все вещи проходят передо мной в своем пышном разнообразии, и я созерцаю в нем возврат к истоку» (Дао-Дэ цзин). В этом огромном и красочном мире мудрый пестует великую беспристрастность: он идет «Срединным Путем», в силу своей безупречной сосредоточенности не выказывая никаких качеств, ничем себя не выдавая. У него нет ни воспоминаний, ни надежд – такова его плата за усилие самопревозмогания. Он подобен даосскому мудрецу, который «чужд человеческим понятиям». Все вещи для него – только отблески вовек сокровенной глубины его просветленного понимания. Он сливается с несотворенным Хаосом. И, усвоив себе ужасающую мощь бытийственного рассеивания, прильнув к первозданной подлинности жизни, он с истинно царской щедростью дарит людям сокровище «Единого Сердца» – источник доверия и любви между людьми. Отринув в себе все «слишком человеческое», он становится «по-небесному человечным».
Наш краткий обзор стратегической концепции Сунь-цзы позволяет увидеть в ней особую систему и иерархию ценностей. В какой-то мере об этой системе можно судить по цитированному выше суждению из трактата «Вэй Ляо-цзы», где различаются три способа достижения победы в войне: низший из них – это «победа с помощью силы», выше него стоит победа «посредством устрашения», лучшая же победа достигается «с помощью Пути». Такая иерархия форм войны соответствует традиционной для китайской культуры трехступенчатой иерархии духовного совершенства. Уже Лао-цзы говорил, что Путь постигают благодаря «сокрытию и еще сокрытию». В китайской теории живописи было принято делить художников на три разряда: «умелые», «утонченные» и «духовные». В боевых искусствах Китая существовало представление о трех уровнях применения силы: «раскрытие силы», «сокрытие силы» и «превращение силы» – и трех уровнях единоборства: физического, психосоматического в среде ци (именно ему соответствует способность внушать противнику панический страх) и духовного, вообще не фиксируемого в сознании.
Упомянутый иерархический порядок еще со времен Лао-цзы трактовался в категориях последовательного сокрытия-раскрытия, то есть перевертывания опыта: внешние образы должны сокрыться, чтобы могла проявиться внутренняя реальность. В сущности, речь идет об особом виде откровения – всегда заданном человеческому пониманию откровении внутреннего динамизма жизни, чистой действенности бытия. Такое откровение выявляется и даже претворяется самим человеком. Сунь-цзы не принимает во внимание ни гадания, ни вмешательство божественных сил. Но его стратегия основывается на знании предельной реальности, которая есть присутствие небесной глубины в человеческих делах. Его учение – превосходный образец китайской мудрости, о которой можно сказать словами старинной китайской поговорки: «Когда осуществится Путь Человека, Путь Неба осуществится сам собой».
Стратегическая концепция Сунь-цзы – это результат человеческого познания и путь человеческой практики, которые, однако, хранят в себе нечто безусловное, всеобщее, нерукотворное, недоступное осознанию, воистину «небесное». Китайский стратег начинает с педантичного рассмотрения конкретных, даже рутинных задач военного дела и до конца остается приверженным этой непритязательной, чуждой метафизических абстракций и сентиментальной патетики почве земного бытия. Но ему дана способность прозревать в череде будничных событий одну вселенскую событийность, открывать в человеческой суете одну бесконечную действенность. Очень характерное для китайского миросознания сцепление прагматизма и мистического опыта. В этом кристалле традиции понятия получают жизнь от собственного предела и с легкостью перетекают друг в друга, друг друга замещают, как замещают друг друга многие иероглифы в древнекитайских текстах. Их метаморфозы сообщают о пространстве событийности, в котором все есть только Превращение и каждая вещь, сведенная к своей предельности, пронизывает и вмещает в себя все прочие, всякий момент времени заключает в себе все времена.