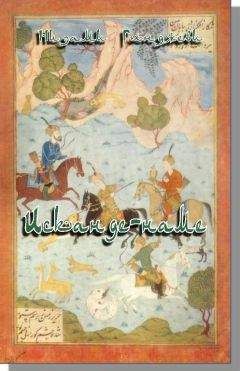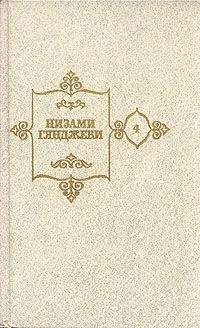СКАЗАНИЕ ОБ ИСКАНДЕРЕ И МУДРОМ ПАСТУХЕ
Приходи, о певец, и зарею, как встарь,
Так захмеэ роговым ты по струнам ударь,
Чтоб ручьи зажурчали, чтоб наши печали
Стали сном и к мечтаниям душу умчали.
* * *
Так промолвил прекрасный сказитель былой,
Не имеющий равных за древнею мглой:
В румском поясе царь и в венце из Китая
Был на троне. Сияла заря золотая.
Но нахмурился царь, наложил он печать
На улыбку свою, ей велев замолчать.
Обладал он Луной, с солнцем блещущим схожей,
Но она в огневице сгорала на ложе.
Уж мирских не ждала она сладостных чар,
К безнадежности вел ее тягостный жар.
И душа Искендера была уж готова
Истомиться от этого бедствия злого.
И велел он, исполненный тягостных дум,
Чтоб явились все мудрые в царственный Рум.
Может статься, что ими отыщется мера
Исцелить и Луну и тоску Искендера.
И наперсники власти, заслышавши зов,
Притекли под ее милосердия кров.
Сотворили врачи нужных зелий немало,
Все же тело Луны, изнывая, пылало.
Рдело красное яблочко, мучась, горя.
В мрачной горести хмурились брови царя.
Был он сердцем привязан к пери луноликой,
Потому и томился в тревоге великой.
И, с престола сойдя, царь на кровлю взошел, —
Будто кровля являла спокойствия дол.
Обошел он всю кровлю и бросил он взоры
На окрестные степи и дальние горы.
И внизу, там, где степь расстилалась тиха,
Царь увидел овец, возле них — пастуха.
В белой шапке, седой, величавый, с клюкою
Он стоял, на клюку опираясь рукою.
То он даль озирал из конца и в конец,
То глядел на траву, то глядел на овец.
Был спокойный пастух Искендеру приятен, —
Так он мудро взирал, так плечист был и статен.
И велел государь, чтобы тотчас же он
Был на кровлю к престолу царя приведен.
И помчалась охрана, чтоб сделать счастливым
Пастуха, осененного царским призывом.
И когда к высям трона поднялся старик,
Пурпур тронной ограды пред смертным возник.
Он пред мощным стоял Искендеровым валом,
Что о счастье ему говорил небывалом.
Он склонился к земле: был учтив он, и встарь
Не один неред ним восседал государь.
Подозвал его царь тихим, ласковым зовом,
Осчастливив его государевым словом.
Так сказал Искендер: «Между гор и долин
Много сказов живет. Расскажи хоть один.
Я напастью измучен и, может быть, разом
Ты утешишь меня многомудрьш рассказом».
«О возвышенный! — вымолвил пастырь овец. —
Да блестит над землею твой светлый венец!
Да несет он твой отблеск подлунному миру!
Дурноглазый твою да не тронет порфиру!
Ты завесу, о царь, приоткрой хоть слегка.
Почему твою душу сдавила тоска?
Должно быть мне, о царь, сердце царское зрящим,
Чтоб утешить рассказом тебя подходящим».
Царь одобрил его. Ведь рассказчик найти
Нужный корень хотел на словесном пути,
А не тратить речей о небес благостыне
Иль о битвах за веру, как житель пустыни.
Царь таиться не стал. Все открыл он вполне.
И когда был пастух извещен о Луне,
До земли он вторично склонился и снова
Он молитвы вознес благодатное слово.
И повел он рассказ: «В давних, юных годах
Я Хосроя служил и, служа при царях,
Озарявших весь мир ярким праздничным светом, —
Тем, которым и я был всечасно одетым,
Знал я в Мерве царевича. Был его лик
Столь прекрасен! А стан — словно стройный тростник.
Был красе кипарисов он вечной угрозой,
А ланиты его насмехались над розой.
И одна из пленительниц спальни его,
Та, что взору являла красы торжество,
Пораженная сглазом, охвачена жаром,
Заметалась в недуге настойчивом, яром.
Жар бездымный сжигал. Ей уж было невмочь.
Ни одно из лекарств не сумело помочь.
А прекрасный царевич, — скажу я не лживо:
Трепетал кипарис, будто горькая ива.
Увидав, что душа его жаркой души
Будто молвила смерти: «Кто мне поспеши!»
И стремясь не испить чашу горького яда,
На красотку не бросив померкшего взгляда,
Безнадежности полный, решил он: в пути,
Что из мира уводит, покой обрести.
За изгибами гор, что казались бескрайны,
Был пустыни простор, — обиталище тайны.
В ней пещеры и бездны. По слову молвы,
Там и барсы таились и прятались львы.
В этой шири травинку сыскали б едва ли,
И Пустынею Смерти ее называли.
Если видел на свете лишь тьму человек,
В эту область беды он скрывался навек.
Говорили: «Глаза не узрели доныне
Никого, кто б вернулся из этой пустыни».
И царевич, теряющий розу свою,
Все хотел позабыть в этом страшном краю.
Но смятенный любимой смертельным недугом,
Был царевич любим благодетельным другом.
Ведал друг, что царевич, объятый тоской,
Злую смерть обретет, а не сладкий покой.
Он лицо обвязал. Схож с дорожным бродягой,
На царевича меч свой занес он с отвагой.
И не узнанный им, разъяренно крича,
Он свалил его наземь ударом сплеча.
Сбив прекрасного с ног, не смущаясь нимало,
На царевича лик он метнул покрывало.
И, схвативши юнца, что стал нем и незряч,
На коне он домой с ним направился вскачь.
А домой прискакав, что же сделал он дале?
Поместил он царевича в темном подвале.
Он слугу ему дал, но, спокоен и строг,
Приказал, чтоб слуга крепко тайну берег.
И царевич, злосчастный, утратив свободу,
Только хлеб получал ежедневно и воду.
И бессильный, глаза устремивший во тьму,
С пленным сердцем, от страсти попавший в тюрьму,
Он дивился. Весь мир был угрюм и неведом.
Как, лишь тронувшись в путь, он пришел к этим бедам?
А царевича друг препоясал свой стан
В помощь другу, что страждал, тоской обуян.
Соки трав благотворных раздельно и вместе
Подносил для целенья он хворой невесте.
Он избрал для прекрасной врача из врачей.
Был в заботе о ней много дней и ночей.
И от нужных лекарств лютой хворости злоба
Погасала. У милой не стало озноба.
Стала свежей она, как и прежде была.
Захотела пройтись, засмеялась, пошла.
И когда в светлый мир приоткрылась ей дверца,
Стала роза искать утешителя сердца.
Увидав, что она с прежним зноем в крови
Ищет встречи с царевичем, ищет любви, —
Друг плененного, в жажде вернуть все былое,
В некий вечер возжег в своем доме алоэ.
И, устроивши пир, столь подобный весне,
Он соперницу роз поместил в стороне.
И затем, как слепца, он, сочувствуя страсти,
Будто месяц изъяв из драконовой пасти,
Сына царского вывел из тьмы. С его глаз
Снял повязку, — и близок к развязке рассказ.
Царский сын видит пир, кравчих, чаши и сласти,
И цветок, у которого был он во власти.
Так недавно оставил он тягостный ад,
Рай и гурию видеть, — о, как был он рад!
Как зажегся он весь! Как он встретил невесту!
Но об этом рассказывать было б не к месту».
И когда царь царей услыхал пастуха,
То печаль его стала спокойна, тиха.
Не горел он уж тяжким и горестным жаром,
Ведь вином его старец попотчевал старым.
Призадумался царь, — все творят небеса…
Вдруг на кровлю дворца донеслись голоса.
Возвещали царю: миновала угроза,
Задышала свободно, спаслась его роза.
И пастух пожелал государю добра.
А рука Искендера была ль не щедра?
* * *
Лишь о тех, чья душа чистым блещет алмазом,
Мы поведать могли бы подобным рассказом.
От благих наши души сияньем полны,
Как от блеска Юпитера или луны.
Распознает разумный обманные чары.
Настоящие вмиг узнает он динары.
Звуку чистых речей ты внимать поспеши.
В слове чистом горит пламень чистой души.
Если в слове неверное слышно звучанье,
Пусть на лживое слово ответит молчанье.
СОЗДАНИЕ ПЛАТОНОМ НАПЕВОВ ДЛЯ НАКАЗАНИЯ АРИСТОТЕЛЯ
О певец, прояви свой пленяющий жар,
Подиви своей песней, исполненной чар!
Пусть бы жарче дела мои стали, чем встаре,
Пусть бы все на моем оживилось базаре.
* * *
С жаром утренний страж в свой забил барабан.
Он согрел воздух ночи, спугнул он туман.
Черный ворон поник. Над воспрянувшим долом
Крикнул белый петух криком звонким, веселым.
Всех дивя жарким словом и чутким умом,
Царь на троне сидел, а пониже, кругом,
Были мудрые — сотня сидела за сотней.
С каждым днем Повелитель внимал им охотней.
Для различных наук, для любого труда
Наступала в беседе своя череда.
Этот — речь до земного, насущного сузил,
А другой — вечной тайны распутывал узел.
Этот — славил свои построенья, а тот —
Восхвалял свои числа и точный расчет.
Этот — словом чеканил дирхемы науки,
Тот — к волшебников славе протягивал руки.
Каждый мнил, что твердить все должны лишь о нем,
Словно каждый был миром в искусстве своем.
Аристотель — придворный в столь мыслящем стане
Молвил так о своем первозначащем сане:
«Всем премудрым я помощь свою подаю.
Все познают принявшие помощь мою.
Я пустил в обращенье познанья динары.
Я — вожак. Это знает и юный и старый.
Те — познанья нашли лишь в познаньях моих,
Точной речью своей удивлял я других.
Правда в слове моем. Притязаю по праву,
Эту правду явив, на великую славу».
Зная близость к царю Аристотеля, с ним
Согласились мужи: был он троном храним.
Но Платон возмутился покорным собраньем:
Обладал он один всеобъемлющим знаньем.
Всех познаний начало, начало всего
Мудрецы обрели у него одного.
И собранье покинув с потупленным ликом,
Словно Анка, он скрылся в безлюдье великом.
Он в теченье ночей спать ни разу не лег.
Из ночных размышлений он песню извлек.
Приютился он в бочке, невидимый взорам,
И внимал небосводам, семи их просторам.
Если голос несладостен, в бочке он все ж,
Углубляемый отзвуком, будет пригож.
Знать, мудрец, чтобы дать силу звучную руду,
То свершил, что весь мир принимал за причуду.
Звездочетную башню покинув, Платон
Помнил звезды и в звездных огнях небосклон.
И высоты, звучавшие плавным размером,
Создавая напев, мудро взял он примером.
В старом руде найдя подобающий строй
И колки подтянув, занялся он игрой.
Руд он создал из тыквы с газелевой кожей.
После — струны приделал. Со струйкою схоже.
За струною сухая звенела струна.
В кожу мускус он втер, и чернела она.
Но чтоб слаще звучать сладкогласному грому,
Сотворил новый руд он совсем по-иному
И, настроив его и в игре преуспев,
Лишь на нем он явил совершенный напев.
То гремя, то звеня, то протяжно, то резко,
Он добился от плектра великого блеска.
И напев, что гремел или реял едва,
Он вознес, чтоб сразить и ягненка и льва.
Бездорожий достигнув иль дальней дороги,
Звук и льву и ягненку опутывал ноги.
Даровав строгим струнам струящийся строй,
Человека и зверя смущал он игрой.
Слыша лад, что манил и пленял как услада,
Люди в пляску пускались от сладкого лада.
А звуча для зверей, раздаваясь для них,
Он одних усыплял, пробуждая иных.
И Платон, внемля тварям и слухом привычным
Подбирая лады к голосам их различным,
Дивно создал труды о науке ладов,
Но никто не постиг многодумных трудов.
Каждым так повелел проникаться он строем,
Что умы он кружил мыслей поднятым роем.
А игра его струн! Так звучала она,
Что природа людей становилась ясна.
От созвучий, родившихся в звездной пучине,
Мысли весть получали о каждой причине.
И когда завершил он возвышенный труд, —
Ароматы алоэ вознес его руд.
И, закончивши все, в степь он двинулся вскоре,
Звук проверить решив на широком просторе.
На земле начертавши просторный квадрат,
Сел в средине его звездной музыки брат.
Вот ударил он плектром. При каждом ударе
С гор и с дола рвались к нему многие твари.
Оставляя свой луг иль сбежав с высоты,
Поникали они у заветной черты
И, вобравши в свой слух эти властные звуки,
Словно мертвые падали в сладостной муке.
Волк не тронул овцы. Голод свой одолев,
На онагра не бросился яростный лев.
Но поющий, по-новому струны настроя,
Поднял новые звуки нежданного строя.
И направил он так лад колдующий свой,
Что, очнувшись, животные подняли вой
И, завыв, разбежались по взвихренной шири.
Кто подобное видел когда-либо в мире?
Свет проведал про все и сказать пожелал:
«Лалов россыпь являет за лалами лал.
Так составлена песня премудрым Платоном,
Что владеет лишь он ее сладостным стоном.
Так из руда сухого он поднял напев,
Что сверкнула лазурь, от него посвежев.
Первый строй извлечет он перстами, — и в дрему
Повергает зверей, ощутивших истому.
Им напева второго взнесется волна,
И встревожатся звери, очнувшись от сна».
И в чертогах царя люди молвили вскоре,
Что Харут и Зухре — в нескончаемом споре.
Аристотель, узнав, что великий Платон
Так могуч и что так возвеличился он,
Был в печали. Чудеснее не было дела,
И соперник его в нем дошел до предела.
И, укрывшись в безлюдный дворцовый покой,
Он все думал про дивный, неведомый строй.
Он сидел, озадаченный трудным уроком,
И разгадки искал он в раздумье глубоком.
Проникал много дней и ночей он подряд
В лад, в котором напевы всевластно парят.
Напрягал он свой ум, и в минуты наитий,
В тьме ночной он сыскал кончик вьющейся нити.
Распознал он, трудясь — был немал его труд,—
Как возносит напевы таинственный руд.
Как для всех он свое проявляет искусство,
Как ведет в забытье, как приводит он в чувство.
Так второй мудролюб отыскал, наконец,
Тот же строй, что вчера создал первый мудрец.
Так же вышел он в степь. Был он в сладостной вере,
Что пред ним и уснут и пробудятся звери.
И, зверей усыпив, новый начал он строй,
Чтоб их всех пробудить полнозвучной игрой.
Но, звеня над зверьем, он стозвонным рассказом
Не сумел привести одурманенных в разум.
Все хотел он поднять тот могучий напев,
Что сумел бы звучать, дивный сон одолев.
Но не мог он сыскать надлежащего лада.
Чародейство! С беспамятством не было слада.
Он вконец изнемог. Изнемог, — и тогда
(За наставником следовать должно всегда)
Он к Платону пошел: вновь постиг он значенье
Мудреца, чье высоко парит поученье.
Он учителю молвил: «Скажи мне, Платон,
Что за лад расторгает бесчувственных сон?
Я беспамятство сдвинуть не мог ни на волос.
Как из руда извлечь оживляющий голос?»
И Платон, увидав, что явился к нему
Гордый муж, чтоб развеять незнания тьму,
Вновь направился в степь. И опять за чертами
Четырьмя плектр умелый зажал он перстами.
Барсы, волки и львы у запретных границ,
Властный лад услыхав, пали на землю ниц.
И тогда говор струн стал и сладким и томным.
И поник Аристотель в беспамятстве темном.
Но когда простирался в забвении он,
Всех зверей пробудил тайной песнью Платон.
Вновь напев прозвучал, возвращающий разум.
Взор открыл Аристотель. Очнулся он разом
И вскочил и застыл меж завывших зверей.
Что за песнь прозвучала? Не знал он о ней.
Он стоял и глядел, ничего не усвоя.
Как зверье поднялось, как забегало, воя?
Аристотель подумал: «Наставник хитер,
Не напрасно меня он в дремоте простер», —
И склонился пред ним. С тайны ткани снимая,
Все Платон разъяснил, кроткой просьбе внимая.
Записал Аристотель и строй и лады,
И ночные свои зачеркнул он труды.
С той поры, просвещенный великим Платоном,
Он встречал мудреца с глубочайшим поклоном.
Распознав, что Платон всем премудрым пример.
Что он прочих возвышенней, — царь Искендер,
Хоть он светлого разумом чтил и дотоле,
Высший сан дал Платону при царском престоле.
РАССКАЗ О ПЕРСТНЕ И ПАСТУХЕ