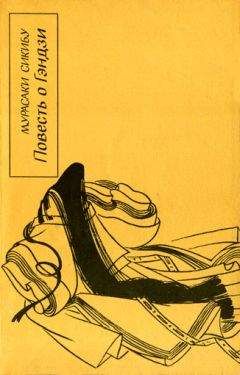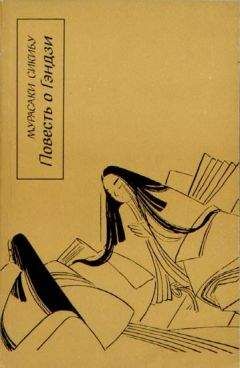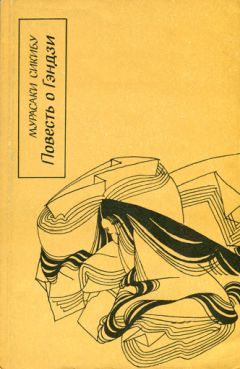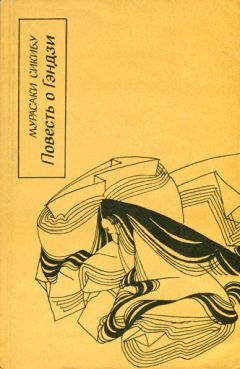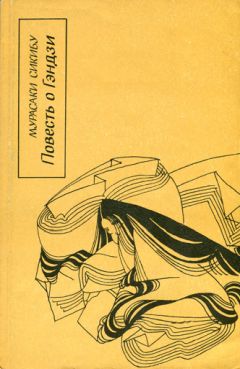Адзэти-но дайнагон, полагавший, что выбор Государя падет на него, с трудом скрывал досаду. Когда-то он питал нежные чувства к матери Второй принцессы, нёго Фудзицубо, и даже после того, как ее отдали во Дворец, продолжал обмениваться с ней письмами. Со временем его внимание обратилось на дочь, и он неоднократно намекал на свое желание, однако нёго даже не уведомила о том Государя, немало уязвив тем самым самолюбие Адзэти-но дайнагона.
— Несомненно, Дайсё — человек особой судьбы, — недовольно ворчал он, — но прилично ли Государю проявлять столь преувеличенную заботу о зяте? Где это видано, чтобы простой подданный чувствовал себя как дома в Девятивратной обители, рядом с высочайшими покоями? Посмотрите, ведь с ним обращаются как с самым почетным гостем!
Адзэти-но дайнагон даже хотел отказаться от чести участвовать в сегодняшнем торжестве, но искушение было слишком велико, и он все-таки пришел, затаив в душе обиду.
Скоро зажгли огни, и гости приступили к сочинению стихов. По очереди подходили они к столику и клали на него листки бумаги с написанными на них стихотворениями. Каждый казался уверенным в успехе, но в большинстве своем их произведения (как обыкновенно бывает в таких случаях) были слишком заурядны и старомодны, а потому я сочла возможным не записывать все подряд. К сожалению, высокий ранг далеко не всегда сочетается с поэтическим дарованием. Тем не менее я приведу здесь несколько стихотворений, чтобы создалось более полное представление об этом вечере. К примеру, вот что сказал Дайсё, сорвав в саду цветущую ветку и преподнеся ее Государю:
— Цветами глициний
Я хотел украсить прическу
Своего Государя,
Но, увы, рукав мой задел
Слишком высокую ветку…
Право, ему следовало быть скромнее… Государь ответил:
— Не поблекнет в веках
Красота цветущих глициний,
Но хочу пожелать,
Чтобы прелестью их сполна
Насладились люди сегодня… (462)
Были сложены и такие песни:
Для тебя, Государь,
Я сорвал эту нижнюю ветку.
Она так ярка,
Даже лиловые облака
Вряд ли бывают ярче… (463).
К Обители туч,
Поражая еще невиданной
Яркостью красок,
Цветущие глицинии
Взметнулись пышной волной (464).
Последнюю песню наверняка сложил раздосадованный Адзэти-но дайнагон! Возможно, что-то я передала не совсем точно, но, уверяю вас, ничего примечательного сложено не было.
С наступлением темноты звуки музыки стали словно еще стройнее. Дайсё запел «Благословение», восхитив собравшихся редкостной красотой голоса. Ему подпевал Адзэти-но дайнагон, которого голос до сих пор не утратил звонкости, снискавшей ему такую славу в прежние времена. Седьмой сын Левого министра, совсем еще дитя, играл на флейте «сё». Он был так мил, что Государь пожаловал ему платье. Министр, спустившись в сад, исполнил благодарственный танец. На рассвете Государь удалился в свои покои.
Дары для высшей знати и принцев были подготовлены самим Государем, а принцесса позаботилась о том, чтобы наградить музыкантов и придворных.
На следующую ночь Дайсё перевез принцессу в дом на Третьей линии. Трудно представить себе более пышное зрелище. Государь распорядился, чтобы принцессе сопутствовали все прислуживающие ему дамы. Она ехала в роскошной карете с навесом, за ней следовали три кареты, украшенные алыми шнурами, но без навесов, шесть карет, отделанных золотом, с плетенными из пальмовых листьев крышами, двадцать таких же карет, но без золотых украшений и две кареты с плетенным из тростника верхом. В каретах располагались тридцать дам, из которых каждую сопровождали восемь девочек-служанок. Дайсё же выслал за супругой двенадцать карет, в которых помещались дамы, прислуживающие в доме на Третьей линии. Все сопровождавшие принцессу лица, начиная с высших сановников и кончая простыми придворными, блистали великолепными нарядами.
Теперь Дайсё имел возможность познакомиться с супругой поближе, и она превзошла все его ожидания. Стройная и изящная, принцесса отличалась кротким и миролюбивым нравом; право, трудно было найти в ней какой-нибудь изъян. Словом, у Дайсё не было оснований сетовать на судьбу, и он чувствовал бы себя вполне счастливым, когда бы не память о прошлом. Увы, ему так и не удалось забыть Ооикими, и в сердце его по-прежнему жила тоска. «Вряд ли мне удастся найти утешение в этой жизни, — думал он. — Очевидно, только достигнув высшего просветления, я сумею понять, чем навлек на себя эти несчастья, и обрету желанный покой». Строительство нового храма — вот что занимало его теперь.
Миновала беспокойная пора подготовки к празднеству Камо, и в двадцатые дни Четвертой луны Дайсё снова отправился в Удзи. Посмотрев, как идет строительство, и отдав соответствующие распоряжения, он решил навестить монахиню Бэн, зная, что она будет огорчена, если он проедет мимо, даже не взглянув на «засохшее дерево».[40]
Подъезжая к дому, он приметил, что по мосту движется внушительная процессия, состоящая из скромной женской кареты в сопровождении грубых на вид воинов из восточных земель с луками и колчанами за спиной и многочисленных слуг. «Какая-нибудь дама из провинции», — подумал Дайсё, въезжая во двор. Еще не смолкли крики его передовых, как процессия приблизилась к дому, явно собираясь въехать в ворота. Спутники Дайсё зашумели, но, остановив их, он послал узнать, кто приехал. Какой-то человек, судя по выговору — провинциал, ответил:
— Дочь бывшего правителя Хитати была на поклонении в Хацусэ, а теперь возвращается в столицу. По пути туда мы тоже останавливались здесь на ночлег.
«Да ведь это же та самая особа!» — догадался Дайсё и, повелев спутникам своим отойти в сторону, отправил к вновь прибывшим слугу, поручив ему сказать следующее:
— Можете вводить карету во двор. Здесь действительно остановился на ночлег один человек, но он занимает северные покои.
Хотя спутники Дайсё были одеты в скромные охотничьи кафтаны, нетрудно было догадаться, что они сопровождают весьма значительную особу. Растерявшись, слуги дочери правителя Хитати отвели лошадей в сторону и замерли, почтительно склонившись.
Карета была введена во двор и поставлена у западного конца галереи.
В заново выстроенном доме еще не успели повесить занавеси, и внутренние покои проглядывались насквозь. Дайсё прошел в ту часть дома, где решетки были опущены, и, спрятавшись в покоях, примыкавших к западной галерее, стал наблюдать за происходящим сквозь отверстие в перегородке. Дабы шелест одежд не выдавал его, он снял верхнее платье.
Девушка не спешила выходить из кареты, как видно решив сначала узнать у монахини, что за важный гость остановился в доме. Однако Дайсё строго-настрого запретил дамам называть его имя, и, не смея ослушаться, они передали:
— Не соблаговолите ли выйти? У нас и в самом деле гость, но он разместился в другой части дома.
Сначала из кареты вышла молодая дама и подняла занавеси. Она была довольно миловидна и выгодно отличалась от остальной свиты. Затем появилась дама постарше.
— Прошу вас, поторопитесь, — сказала она, обращаясь к госпоже.
— Но я окажусь у всех на виду… — ответила та.
Ее еле внятный голос показался Дайсё очень приятным.
— Вы ведь уже бывали здесь! — настаивала дама. — Решетки и тогда были опущены. Откуда вас могут увидеть?
С трудом преодолев смущение, девушка вышла. О да, сходство с Ооикими было поразительно. Та же форма головы, та же тонкая, изящная фигура, то же благородство движений. Лица разглядеть не удалось, ибо девушка все время прикрывала его веером. Сердце Дайсё томительно сжалось.
Карета была высокой, а место, к которому ее подвели, — низким. Обе дамы спустились быстро, но для госпожи это оказалось, судя по всему, нелегким делом, во всяком случае прошло довольно времени, прежде чем она выбралась из кареты и скрылась в глубине покоев. На ней было темно-красное платье и хосонага цвета «гвоздика», а поверх него — еще одно платье цвета молодых побегов.
С той стороны перегородки, за которой расположился Дайсё, стояла ширма высотой в четыре сяку, но отверстие оказалось выше, поэтому ему было все видно как на ладони. Он видел, как девушка прилегла, опасливо отвернувшись от перегородки, за которой он стоял.
— Ах, вы, наверное, устали… Переправляться через реку Идзуми в эту пору так тяжело… — говорили дамы.
— Когда мы проезжали здесь на Вторую луну, воды было куда меньше. Впрочем, после восточных дорог испугать нас не так-то просто.
Сами они были, судя по всему, весьма бодры, но госпожа, утомленная тяготами дальней дороги, лежала, не имея сил вымолвить ни слова. Рука, которой она поддерживала голову, была округла и слишком изящна для дочери правителя Хитати.