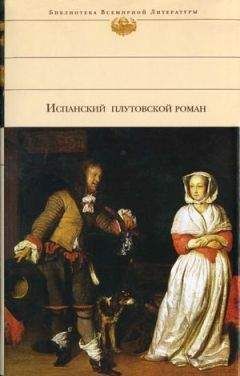Но что мне сказать о способах обедать в чужих домах? Поговорив с кем-нибудь две минуты, мы выведаем, где он живет, и идем туда как бы с визитом, но непременно в обеденный час, когда знаем, что он собирается сесть за стол, говорим, что привели нас пылкие дружеские чувства к хозяину, ибо такого ума и такого благородства, как у него, нигде больше на свете не встретить; когда нас спрашивают, обедали ли мы, то, если хозяева еще не сели обедать, мы отвечаем, что нет, и не дожидаемся вторичного приглашения, так как от подобных ожиданий приходилось нам другой раз терпеть великий пост. А если там уже обедают, то мы заявляем, что поели, и начинаем хвалить хозяина за то, как он ловко режет птицу, хлеб, мясо или что бы там ни было. Для того чтобы отведать подаваемые блюда, мы говорим: «Нет, уж позвольте, ваша милость, поухаживать за вами, ибо я помню, что такой-то, царство ему небесное (тут мы называем имя какого-нибудь умершего герцога, маркиза или графа), великий мой покровитель, предпочитал смотреть, как я режу, чем обедать». Сказав это, мы берем нож и разрезаем кушанье на мелкие кусочки, а затем восклицаем: «Какой чудный запах, какой аромат! Не попробовать такого блюда — значит обидеть ту, которая его готовила, а у нее, видно, золотые руки!» За словом следует дело, и так, на пробу, съешь полблюда: репку потому, что это репка, свинину — потому, что это свинина, и вообще все потому, что оно чем-нибудь да является. Когда такой возможности у нас нет, то мы ходим по монастырям и пробавляемся супом, раздаваемым беднякам, но едим его не на глазах у всех, а потихоньку, заставляя монахов верить, что делаем это не столько из нужды, сколько из набожности.
Стоит посмотреть на кого-нибудь из нас в игорном доме, стоит посмотреть, с каким старанием прислуживает он за зеленым столом, ставит свечи и снимает с них нагар, таскает урыльники, приносит карты и радуется за выигравшего, и все это только для того, чтобы заполучить в награду хоть один реал с кона.
Что касается нашей одежды, то мы наперечет знаем все изъяны нашего тряпья, и как у иных установлены часы для молитв, так у нас установлены часы для его штопки и латанья. Стоит посмотреть, как мы проводим наши утра: поскольку злейшим нашим врагом мы почитаем солнце, ибо оно делает заметным все лоскуты, штопки и заплатки, мы расставляем ноги под его лучи, и по теням, отбрасываемым на земле, видим, какие между ляжками свешиваются у нас нити и лохмотья, и ножницами подстригаем бороды нашим порткам. А так как всего более изнашиваются штаны, мы вырезаем подкладку из-под надрезов сзади, чтобы переставить ее наперед, после чего задница наша, отныне прикрытая одной фланелью, принимает самый мирный вид, поскольку уже не кажется исполосованной ножом; но ведомо это одному лишь нашему плащу, ибо среди бела дня мы остерегаемся порывов ветра, боимся всходить по освещенным лестницам или садиться на коня. Мы изучаем способы сидеть и стоять против света, разгуливаем днем, стараясь не раздвигать ног, и приветствуем знакомых не расшаркиваясь, а лишь прищелкивая каблуками, ибо, если раздвинуть колени, сразу бросятся в глаза окна в нашем одеянии. На теле нашем нет ни одной носильной вещи, которая в прежнее время не была бы чем-нибудь совсем иным и не имела своей истории. Verbi gratia,[11] ваша милость, вероятно, обратила внимание на мою короткую куртку — ну, так знайте, что сначала я носил ее в виде широких штанов до колен и что она является внучкой накидки и правнучкой большого плаща с капюшоном, каковой и был ее родоначальником, а теперь надеется обшить подошву моих чулок и пойти еще на многое другое. Легкие матерчатые туфли были у нас раньше носовыми платками, а еще раньше — полотенцами и рубашками, родными домами простынь; после всего этого мы сделаем из них бумагу для письма, а из нее — средство для оживления почивших башмаков, ибо я сам видел, как безнадежно больная обувь с помощью подобных медикаментов бывала возвращаема к жизни. А чего стоят все те приемы, с помощью которых мы в вечернее время избегаем света, чтобы не видно было наших оплешивевших накидок и полысевших курток? На них ведь остается столько же ворсу, сколько на голом камешке, ибо господу богу угодно, чтобы волоса у нас росли на подбородке и вылезали из плащей. Чтобы не тратиться на цирюльников, мы поджидаем, пока вырастет щетина еще у кого-нибудь из нас, и тогда бреем ее друг у друга, ибо сказано в Евангелии: «Помогайте друг другу как добрые братья». И еще мы стараемся не ходить в те дома, где бывают наши товарищи, если знаем, что знакомые у нас общие. Надо знать, что такое муки ревнивого желудка.
Мы обязаны проехаться верхом хотя бы раз в месяц, хотя бы на осленке, по самым людным улицам, раз в год прокатиться в экипаже, хотя бы на козлах или на запятках. Но если уж нам удалось проникнуть внутрь кареты, то садимся мы обязательно у самой дверцы, выставив всю голову в окошко, и раскланиваемся направо и налево, чтобы нас видели все, и заговариваем с друзьями и знакомыми, даже если они смотрят в другую сторону.
Если нам нужно почесаться в присутствии дам, то мы владеем целой наукой делать это на людях самым незаметным образом. Если у нас чешется бедро, то мы заводим рассказ о том, что нам случалось видеть одного солдата, разрубленного отсюда досюда, и показываем руками то место, где у нас чешется, незаметно его почесывая. Если дело происходит в церкви и у нас зачесалась грудь, то мы бьем себя в нее, как это делают при «Sanctus»,[12] хотя бы читали «Introibo». Если чешется спина, то мы прислоняемся к углу дома или здания и, приподнимаясь на цыпочках и как бы разглядывая что-то, успеваем почесаться.
Рассказать ли вам о лжи? Правда никогда не исходит из наших уст. В свой разговор мы вставляем герцогов и графов, выдавая одних за наших друзей, других — за родственников, но стараясь выбрать между ними лиц, кои уже умерли или находятся в далеких краях.
Особо следует заметить, что мы никогда не влюбляемся бескорыстно, а лишь de pane lucrando,[13] ибо устав наш запрещает ухаживать за жеманницами, и потому мы волочимся за трактирщицей — ради обеда, за хозяйкой дома — ради помещения, за гофрировщицей воротников — ради нашего туалета, и хотя при столь скудной пище и столь убогом существовании со всеми не управишься, однако каждая из них бывает вполне довольна, что наступила ее очередь.
Глядя на мои высокие сапоги, как можно догадаться, что они сидят на голых ногах, без чулок или чего-либо в том же роде? Глядя на этот воротник, можно ли узнать, что я хожу без рубашки? Ибо все может отсутствовать у дворянина, сеньор лисенсиат, все, кроме роскошно накрахмаленного воротника, с одной стороны, потому что он служит величайшим украшением человеческой личности, а затем еще и потому, что, вывернутый наизнанку, он может напитать человека, ибо крахмал есть съедобное вещество и его можно посасывать ловко и незаметно. Словом, сеньор лисенсиат, дворянину нашего полета надлежит воздерживаться от всего лишнего еще строже, чем беременной на девятом месяце, и тогда он проживет в столице. Правда, в иную пору он процветает при деньгах, а в иную валяется в больнице, но в конце концов жить можно, и кто умеет изворачиваться — тот сам себе король, хоть мало чем и владеет.
Мне так понравился у этого идальго его необычайный способ существования и я так был упоен всем этим, что, увлекшись его рассказами, не заметил, как добрался до Лас-Pocac, где мы и заночевали. Идальго, у которого не было ни гроша, поужинал со мною, я же считал себя многим обязанным ему за его советы, ибо с их помощью у меня открылись глаза на многое, и я склонился к его обманному образу жизни. Прежде чем мы легли спать, я заявил ему о желании моем вступить в их братство. Он бросился меня обнимать, говоря, что не сомневался в должном действии своих слов на столь умного и тонкого человека. Он предложил познакомить меня в столице с остальными членами шайки и поселиться у них. Я согласился воспользоваться его любезностью, однако умолчал о моих эскудо и упомянул только о сотне реалов, их оказалось достаточно вместе с тем добром, которое я ему сделал и продолжал делать, для того, чтобы он почувствовал себя обязанным мне за мое дружеское к нему расположение. Я купил ему три ремня, он привел в порядок свою одежду, ночь мы проспали спокойно, встали рано и пустились в путь к Мадриду.
Глава XIV
о том, что случилось со мною в столице после того, как я туда прибыл, и вплоть до наступления ночи
В десять часов утра мы вступили в столицу и, как было условлено, направились к обиталищу друзей дона Торибио. Добрались мы до его дверей, и дон Торибио постучал; двери открыла нам какая-то весьма бедно одетая дряхлая старушенция. Дон Торибио спросил ее о своих друзьях, и она ответила, что все они отправились на промысел. Мы провели время одни, пока не пробило двенадцать часов: он — наставляя меня ремеслу дешевой жизни, а я внимательно его слушая. В половине первого в дверях появилось нечто вроде привидения, с головы до ног закутанного в балахон, еще более потрепанный, чем его совесть. Они поговорили с доном Торибио на воровском языке, после чего привидение обняло меня и предложило себя в полное мое распоряжение. Мы немножко побеседовали, и мой новый знакомый вытащил перчатку, в которой находилось шестнадцать реалов, и какую-то бумагу, которая, по его словам, представляла собой разрешение нищему просить милостыню и принесла ему эти деньги. Опорожнив перчатку, он достал другую и сложил их, как это делают доктора. Я спросил его, почему он не надевает их, и он объяснил, что обе они с одной руки и этой хитростью он пользуется, когда ему нужно добыть себе перчатки. Усмотрев тем временем, что он не снимает своего балахона, я (как новичок) полюбопытствовал узнать причину, которая заставляет его все время ходить закутанным, на что он ответствовал: