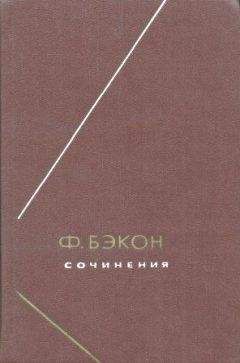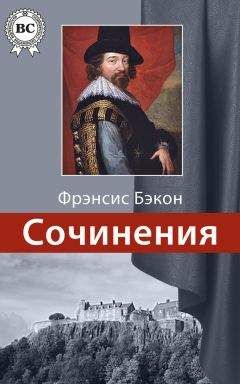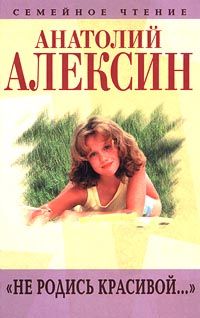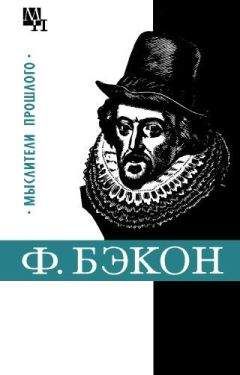Справедлива древняя поговорка: «Место кажет человека». Только одних оно кажет в хорошем виде, а других — в плохом. «Omnium consensu capax imperii, nisi imperasset»,[53] — сказал Тацит о Гальбе; но о Веспасиане он говорит: «Solus imperantium, Vespasianus mutatus in melius».[54] Правда, в первом случае речь идет о способностях; во втором — о нраве и обхождении. Кого почести изменяют к лучшему, тот наверняка по природе великодушен. Ибо почести подобают — или должны подобать — именно добродетели; и как в природе все движется стремительно к своему месту и спокойно — по достижении его, так и добродетель стремительна, когда одержима честолюбием, и умиротворяется, когда облечена властью. На большую высоту всегда восходят не прямо, но по винтовой лестнице; и если имеются партии, то при восхождении нужно искать опоры, а взойдя на вершину — равновесия. К памяти предшественника будь справедлив и почтителен, ибо иначе этот долг наверняка отдадут ему после тебя. К соратникам имей уважение; лучше призвать их, когда они того не ждут, чем обойти, когда они надеются быть призванными. В личных беседах с просителями не следует слишком помнить о своем сане или напоминать о нем; но пусть лучше о тебе говорят: «Когда он в должности, он совсем другой человек».
Следующая ходячая школьная притча заслуживает, однако, внимания человека вдумчивого. Однажды Демосфена спросили: какой дар всего нужнее оратору? Тот ответил: «Жест». А затем? — «Жест». А еще? — «Опять-таки жест». Так говорил тот, кто лучше всех мог судить об этом, хотя сам природой не был предназначен для успеха в том, что так восхвалял.[55] Не странно ли, что этот дар, внешний и относящийся, скорее, к искусству актера, ставится выше других благородных талантов: воображения, дара речи и прочих, и даже как бы объявляется единственным. Причина, однако ж, ясна. Человеческой натуре вообще более сродни глупость, нежели мудрость; а потому и качества, пленяющие людскую глупость, имеют наибольшую силу воздействия.
В прочих житейских делах такую же точно силу имеет бойкость. Что нужнее всего? — Бойкость. А что во-вторых и в-третьих? — Опять-таки бойкость. А между тем бойкость — дитя низости и невежества и не идет в сравнение с другими талантами; и все же она прельщает и покоряет всех, кто либо слаб разумом, либо робок духом — а таких всегда много; в минуты же слабости подчиняет себе и мудрых. Вот почему бойкость творит чудеса при народовластии, но меньше при сенатах и монархах; и всегда бойкие достигают большего при первом своем появлении, чем в дальнейшем, ибо бойкость плохо держит свои обещания.
Как есть шарлатаны, обещающие исцеление телу, так есть и шарлатаны в политических исцелениях. Они сулят чудеса и бывают, быть может, удачливы раз или два, но, не зная основ всей науки, не могут удерживаться долго. Не раз приходится бойким свершать чудо Магомета. Магомет уверил народ, что призовет к себе гору и с вершины ее вознесет молитвы за правоверных. Народ собрался. Магомет вновь и вновь взывал к горе; когда же гора не тронулась с места, он, ничуть не смущаясь, сказал: «Если гора не идет к Магомету, Магомет придет к горе». Так и эти люди, посулив чудеса и потерпев постыдную неудачу, умеют, если вполне овладели искусством бойкости, ловко отвести глаза, да на том и кончить дело.
Конечно, для людей мыслящих бойкость представляет забавное зрелище, да и в глазах толпы она смешна; ибо если смешным почитается нелепое, то крайняя бойкость с нелепостью почти неразлучна. Особенно забавно видеть, как бойкий бывает приведен в смущение и как лицо его при этом вытягивается и деревенеет; оно и неудивительно: кто скромен, тому не привыкать смущаться; но на бойких в подобных случаях находит столбняк — вроде пата в шахматной игре, когда и мата нет и с места сойти нельзя. Последнее, впрочем, составляет скорее предмет сатиры, нежели серьезных наблюдений.
Надо хорошенько помнить, что бойкость всегда слепа: она не различает опасностей и препятствий, а потому непригодна советнику, но нужна исполнителю; так что бойких лучше не выдвигать на первое место, но ставить под начало других, ибо при обсуждении дела полезно видеть все его опасности, а при выполнении лучше не видеть их, разве когда они очень уж велики.
XIII. О доброте и добродушии
Под добротой я разумею заботу о благе людей, называемую у греков «филантропией»; слово «гуманность» (как оно употребляется ныне) для нее несколько легковесно. Добротой я называю деяние, добродушием же — природную склонность. Изо всех добродетелей и достоинств доброта есть величайшее, ибо природа ее божественна; без нее человек — лишь суетное, вредоносное и жалкое создание, не лучше пресмыкающегося. Доброта соответствует евангельскому милосердию; излишество в ней невозможно, возможны лишь заблуждения. Чрезмерное властолюбие привело к грехопадению ангелов, чрезмерная жажда знания — к грехопадению человека; милосердие же не бывает чрезмерным и не может ввести в грех ни человека, ни ангела.
Склонность творить добро заложена глубоко в природе человеческой; когда она не изливается на людей, то направляется на другие создания; это видим мы у турок, народа жестокого, который, однако же, добр к животным и подает милостыню собакам и птицам. Как рассказывает Бусбек,[56] дело доходит до того, что однажды в Константинополе христианский мальчик едва не был побит камнями за то, что из шалости заткнул клюв птицы. Но в добродетели милосердия, или доброте, таится опасность заблуждения. Есть у итальянцев злая поговорка: «Tanto buon che val niente» — «Так добр, что ни к чему не годен». А один из ученых итальянцев, Никколо Макиавелли, имел дерзость прямо написать, что «христианская вера делает добрых добычею несправедливости и тирании».[57] Это могло быть сказано потому, что ни один закон и ни одно учение так не превозносит доброту, как это делает христианство.
Во избежание как подобных дерзостей, так и указанной опасности следует знать, какие именно заблуждения свойственны столь превосходному качеству. Стремись ко благу ближних, но не будь рабом их прихотей или притворства, ибо это будет всего лишь податливость, или слабоволие, обращающие в рабство отличных людей. Не одаривай также жемчугом Эзопова петуха,[58] когда ячменное зерно его более осчастливило бы. Пред тобой пример Господа твоего: «Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных»;[59] но он не изливает богатств и почестей на всех без различия. Необходимое должно быть доступно всем, но особые блага надлежит распределять с разбором. Остерегайся также разбить оригинал, делая слепок; оригиналом же, согласно Писанию, является любовь к самому себе, а любовь к ближнему — лишь слепком. «Все, что имеешь, продай и раздай нищим… и приходи, последуй за мною…».[60] Но не продавай всего, что имеешь, если не готов последовать за мной, т. е. если нет призвания, которое позволит тебе с малыми средствами делать столько же добра, сколько с большими; иначе, питая потоки, осушишь ключи.
Впрочем, добро творится не только по разуму; в некоторых людях и даже в природе существует естественное к нему расположение, как существует, с другой стороны, и прирожденная злобность, по природе своей не терпящая чужого благополучия. В более легкой степени злобность оборачивается простой угрюмостью, или упрямством, или склонностью перечить; худший же вид ее — зависть и злонравие. В чужом несчастье такие люди чувствуют себя как рыбы в воде и на редкость умеют его отягчить; это не собаки, лизавшие язвы Лазаря, а, скорее, мухи, без устали жужжащие над открытой раной; эти misanthropi постоянно заняты тем, что доводят людей до петли, но даже дерева не припасают им для этого, как Тимон.[61] Люди подобного нрава являются поистине ошибками природы, но вместе с тем и наилучшим материалом для создания великих политиков; это как бы узлистое дерево, пригодное для кораблей, предназначенных к бурным плаваниям, но не для домов, коим надлежит стоять прочно.
Признаки доброты многочисленны. Если человек приветлив и учтив с чужестранцами, это значит, что он гражданин мира и что сердце его не остров, отрезанный от других земель, но континент, примыкающий к ним. Если сочувствует чужому несчастью, это показывает, что сердце его, как благородное дерево, источает бальзам из собственных ран. Если легко прощает обиды, это значит, что дух его выше оскорблений и не может потерпеть от них урона. Если признателен за малые дары, это означает, что в людях ценит душу, а не имущество. Если же он достиг совершенства апостола Павла и готов быть отлученным от Христа за братьев своих,[62] это указует на божественную природу и как бы родство с самим Христом.
О знати я намерен говорить сперва как о сословии в государстве, а затем как об отличиях отдельных лиц.
Монархия, где вовсе отсутствует знать, всегда бывает чистым деспотизмом и тиранией, наподобие турецкой. Ведь знать умеряет власть монарха и отвлекает взоры народа от королевского дома. Демократиям она не нужна: там, когда нет знатных родов, обыкновенно бывает больше покоя и меньше склонности к смутам; ибо внимание людей устремляется тогда на дело, а не на лица; а если на лица, то опять-таки в поисках наиболее пригодных для дела, но не ради гербов и родословных. Мы видим, например, что Швейцарская республика держится прочно, несмотря на множественность вероисповеданий и кантонов, ибо покоится на принципе полезности, а не привилегий. Преуспевают также благодаря своему управлению и Соединенные Провинции; ведь, где господствует равенство, там решения правительства беспристрастнее, а подати и повинности выплачиваются охотнее. Многочисленная и могущественная знать придает монарху величие, но ограничивает его власть, ободряет народ, но ложится на него бременем. Хорошо, когда знать не более могущественна, чем это необходимо в интересах государя и закона, однако же достаточно сильна, чтобы служить трону оплотом против наглости черни. Многочисленная знать несет стране разорение, ибо увеличивает расходы; к тому же многие из ее числа со временем неизбежно беднеют, создавая тем самым несоответствие состояния со званием.