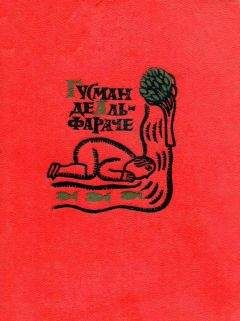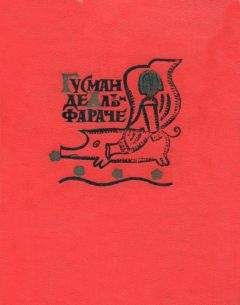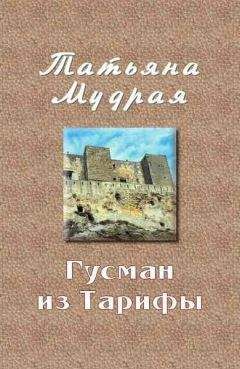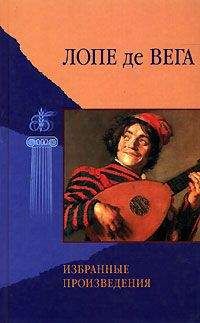Ежели ты знаком с воровским делом или же наслышан о нем, тебе, думаю, любопытно будет узнать, как я забрался в этот сундук, не подделывая ключа, не взламывая замка, не срывая петель и не ломая досок. Погоди, сейчас расскажу. Когда мне выпадал черед стоять у дверей спальни, а кардинал был занят приемом гостей или другими неотложными делами, я принимался орудовать своим инструментом. Поддев с одного края крышку сундука, я загонял в щель деревянный клин и, действуя им, как рычагом, засовывал туда круглую палку, выточенную наподобие рукоятки молотка, с утолщением к одному концу. Палку эту я поворачивал, задвигая все дальше под крышку, и та приподымалась. А руки у меня были тонкие, мальчишечьи, — я вытаскивал из сундука все, что мне вздумается, и набивал сластями полные карманы.
Больше того, ежели мне до чего-нибудь не удавалось дотянуться, я, с обычным в таких делах упорством и азартом, всаживал в палку или тростинку две шпильки, из которых одна была загнута крючком, и добивался своего. Словом, я и без ключа хозяйничал в сундуке, как хотел. Так пристрастился я к этому занятию, что вскоре опустошения стали заметны, хоть в сундуке было много всякой всячины; вышло же все наружу из-за пропажи банки с испанской айвой, такой крупной и золотистой, что у меня от одного ее вида слюнки текли. Эта айва прямо светилась, и я надолго запомнил ее вкус; право, еще сейчас его ощущаю во рту — ничего лучше отродясь не едал.
Банка была приметная, и когда она исчезла, начался переполох. Но никому и в голову не приходило, что ее можно было вытащить иначе, как отперев сундук ключом. Монсеньер был весьма огорчен, что среди его слуг есть наглец, способный подделывать ключи и отпирать замки в собственном его чулане. Он созвал всех старших слуг и потребовал выяснить истину. К счастью, айву я давно съел, от нее уже и следа не осталось. Дворецким у нас был один капеллан, человек угрюмый и злобный; он велел запереть всех пажей в одной комнате и обыскать, а также осмотреть их покои, ибо полагал, что виновником такого дела был не взрослый, а кто-нибудь из нас, озорников.
Нас посадили под замок, но все попусту — честность наша оказалась наичистейшей пробы. Гроза миновала, и все же от тревоги я не избавился: хозяин не шутя положил узнать правду. Несколько дней я выжидал, пока шум уляжется и другие заботы заставят забыть об айве, — не то что забраться в сундук, даже взглянуть на него боялся. Но пойдет молодое дерево кривулею расти, не распрямится и к старости; как привык я плутовать, уж ничем нельзя было меня исправить. Я так же не мог жить без плутней, как не дышать, и особенно полюбилось мне воровать сласти. Не удержавшись, я снова свалился с седла, сиречь снова полез в сундук. Все пошло по-старому.
Однажды хозяин сел играть в карты с другими кардиналами; я решил, что волей-неволей придется ему неотлучно быть с гостями. Дверь в чулан, где стоял сундук, была в глубине спальни; и вот, когда я сидел там, засунув руку внутрь сундука, монсеньеру пришла надобность помочиться. Он поднялся в спальню и, не видя никого из пажей, сам взял урыльник, стоявший у изголовья кровати. Услыхав шум, я вздрогнул, хотел поскорей вытащить руку, да с перепугу вышиб палку, та покатилась по полу, а руку мою придавило крышкой — попался я, как воробей в силки.
Услыхав стук, монсеньер спросил:
— Кто здесь?
Я не смел ни ответить, ни пошевельнуться. Тогда он зашел в чулан и увидел меня перед сундуком на коленях, словно я вырезал соты из улья. Монсеньер спросил, что я делаю. Пришлось сознаться.
Мое забавное положение так его рассмешило, что он позвал гостей полюбоваться на меня. Все долго смеялись и просили кардинала на первый раз простить мне ребяческую страсть к сладкому. Монсеньер, однако, настаивал, что меня следует высечь. Начался спор, сколько плетей мне всыпать, и торговались они так упорно, будто речь шла о какой-нибудь декреталии. Наконец сошлись на дюжине плетей. Уплату препоручили отцу Николао, секретарю монсеньера. Это был мой смертельный враг. Он повел меня в свой кабинет и с таким смаком высек, что я две недели не мог сидеть.
Но недолго пришлось ему торжествовать, вскоре он уплатил за все сторицей. В Риме в ту пору развелось множество комаров; во дворец они тоже залетали и особенно досаждали секретарю монсеньера. Я сказал ему:
— Сеньор, могу вам посоветовать средство, которым у нас в Испании истребляют этих зловредных мошек.
Он поблагодарил и стал умолять, чтобы я открыл ему это средство. Я сказал, что надобно взять пучок петрушки и, смочив ее в крепком уксусе, положить у изголовья; на запах слетятся комары, сядут на петрушку и все передохнут. Отец Николао поверил и последовал моему совету. Ночью, когда он улегся в постель, на него тучей напали комары и чуть не съели живьем. Бедняга нещадно хлопал себя по щекам, по шее и в надежде, что комары скоро сдохнут, терпел эту муку до утра.
На следующую ночь мое снадобье привлекло комаров не только со всего дома, но со всего квартала; они снова принялись за секретаря и так искусали лицо и все места, до которых могли добраться, что пришлось ему опрометью удирать из комнаты.
Секретарь готов был меня убить. Когда монсеньер увидал его лицо, точно изуродованное проказой, и заметил, что я прячусь, он чуть не надорвался от хохота и приказал позвать меня. Я явился, а он спрашивает, что меня толкнуло на такую проделку.
— Ваше преосвященство, — ответил я, — вы приказали всыпать мне за сласти дюжину плетей и, конечно, помните, как ваши гости торговались за каждый удар; к тому же удары эти должны были быть не смертельными, но посильными для малолетнего. А отец Николао хлестнул меня больше двадцати раз — это по его счету, — и последние удары были самыми зверскими. Я и отомстил ему волдырями за волдыри.
Так дело обошлось шуткой. В эту пору я за прежний свой проступок, который стоил мне порки, был временно удален от службы при кардинале и приставлен к его эконому.
ГЛАВА VIII
о том, как Гусман де Альфараче отомстил секретарю за шутку с экономом, а также о ловком похищении бочонка с вареньем
Эконом был человек старого закала, прямодушный, обходительный, чуждый всякого коварства, только немного надоедливый и мнительный. Ежедневно он отсылал положенные ему припасы каким-то бедным родственницам, а иногда обедал или ужинал у них; после одного такого ужина и случилась с ним история, которую вы сейчас услышите. Эконом поел у своих родственниц макарон, приготовленных с сыром, перцем и обжаренных в гусином жиру, и запил их водой, после чего почувствовал себя плохо. Придя домой, он сразу разделся и лег в постель. На следующий день монсеньер за ужином заметил его отсутствие и спросил, что с ним. Узнав, что эконом хворает, кардинал послал справиться о его здоровье. Больной просил передать, что участие его преосвященства, пославшего проведать верного слугу, настолько его ободрило, что он надеется к утру выздороветь.
Больше в тот вечер разговора об этом не было. Утром я, как обычно, понес съестное родственницам эконома, а другой паж принялся чистить его платье, чтобы хозяин мог одеться. Эконом и секретарь постоянно подшучивали друг над другом, и невинные эти шутки весьма потешали монсеньера. Вот и теперь, поднявшись пораньше, секретарь зашел в прихожую, где мой товарищ чистил платье, и спросил:
— Как здоровье твоего хозяина?
Паж ответил, что эконом еще почивает, так как всю прошлую ночь не сомкнул глаз.
— Пока он не встал, — сказал секретарь, — сходи-ка с моим слугой, пособи ему снести одну вещь. Да побыстрей возвращайся, а я пока побуду тут.
Паж пошел, куда его послали. Секретарь же еще накануне, узнав, что эконом не явился к столу и ужинает где-то на стороне, придумал забавную шутку: он договорился с одним пареньком, чтобы тот нарядился в женское платье и спрятался в спальне эконома за пологом кровати. Пользуясь тем, что эконом спит и дверь открыта, секретарь тихонько вошел в спальню, за ним проскользнул паренек и, как было уговорено, спрятался. Тогда секретарь пошел в сад, где прогуливался кардинал, читая молитвы. Тот прежде всего осведомился об экономе.
— Монсеньер, — ответил секретарь, — я нынче справлялся о нем, и его слуга сказал, что ночь он провел худо. Да я этому не дивлюсь; вчера вечером, когда я навестил его, он со мной и двух слов не вымолвил; видимо, с ним неладно.
Монсеньер, воплощенное милосердие, поспешил к больному. И когда он сел у изголовья кровати, из-за полога появился наряженный дамой парень и сказал:
— Ай, беда мне! Я должна идти, сударь, уже поздно, дома ждет муж.
С этими словами он прошел к дверям на виду у столпившихся в комнате слуг. Монсеньер был поражен, он почитал эконома чуть не святым; а тот, до смерти перепугавшись, решил, что перед ним привидение.